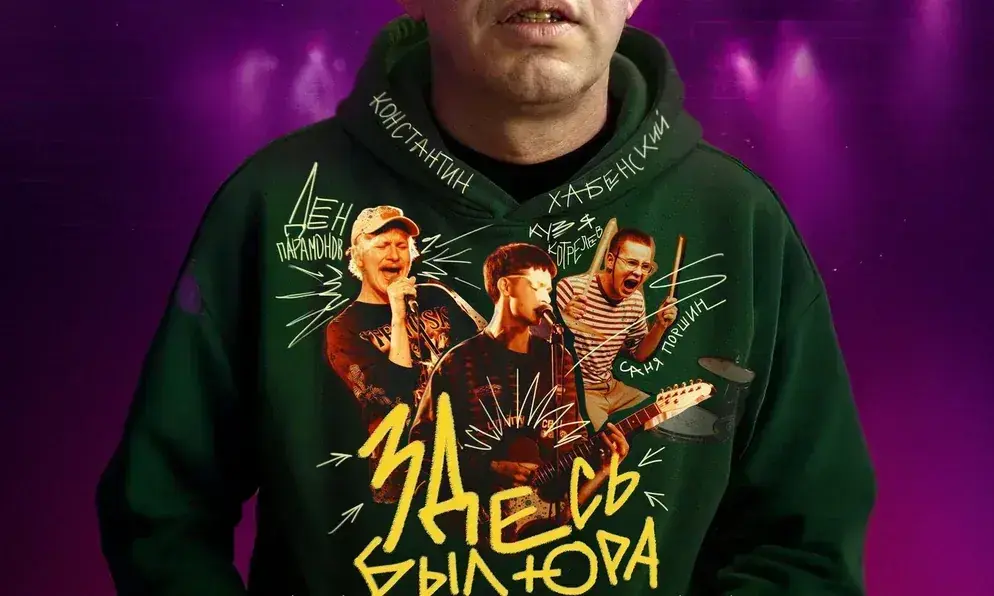29 марта Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) покажет открытую репетицию музыкального спектакля «Новые приключения Элли и ее друзей». В основе — книга Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Постановка осуществлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стала продолжением хита театра — спектакля «Волшебник Изумрудного города». Премьера намечена на начало июня.
Накануне первого показа на зрителя IPQuorum пообщался с режиссером спектакля и художественным руководителем ДМТЮА, заслуженным деятелем искусств РФ, заслуженным артистом РФ Александром Федоровым.
— Александр Львович, расскажите немного о новом спектакле.
— Спектакль станет продолжением одного из самых наших успешных спектаклей «Волшебник Изумрудного города». Музыку, как и в прошлый раз, написал Евгений Загот, а автором стихотворного текста стал Лев Яковлев, который работал над спектаклями «Баранкин, будь человеком!» и «Республика ШКИД». У нас очень необычная сценография, художник Гарри Гуммель специально создал видеоконтент, благо технические возможности театра это позволяют.
Фото предоставлено пресс-службой ДМТЮА
— С самого начала замысливали сделать эдакий театральный сериал?
— Нет, изначально собирались поставить только первую часть литературного цикла Александра Волкова. Спектакль действительно вышел очень удачным. И вот как-то мы беседовали с Женей Заготом и Левой Яковлевым, и у нас появилась идея выпустить продолжение. И получился такой мини-сериал. Радует, что в этом нас поддержал Президентский фонд культурных инициатив.
— В этом году «Волшебник Изумрудного города» вышел в кино, и режиссер тоже готовит к показу вторую часть. Не боитесь конкуренции с большим экраном?
— Нисколько. Мы друг другу не конкуренты. После выхода фильма наш спектакль не стал менее популярным, у нас по-прежнему полные залы. Я бы даже сказал, что интерес к спектаклю возрос. Понимаете, кино и театр — это две совершенно разные вселенные. Сравнивать фильм и спектакль не имеет смысла. Потому что театр — это про живое. Его нельзя поставить на паузу. В кино ты видишь картинку, а здесь все происходит здесь и сейчас. Живая девочка Элли прямо перед тобой, а не где-то там плоская и на экране. И все ее приключения происходят у тебя на глазах.
— Как вы в целом выбираете репертуар для своего театра?
— Это должно быть интересно детям, и тем, которые на сцене играют, и тем, которые в зрительном зале. Это должно быть что-то яркое. Не цветово, а в плане событийного ряда. Плюс история должна быть глубокой. У нас очень разнообразный репертуар: есть приключения в Изумрудном городе, а есть Оливер Твист, где речь идет о взрослении, соприкосновении с опасностью, с предательством, со смертью. Обо всем об этом надо говорить. При этом и то и то интересно и глубоко. Плюс мне важно, чтобы история не была проходной. Потому мы сегодня так много говорим о материале. В ближайших планах есть задумка сделать «Чёрную курицу, или Подземных жителей» Погорельского. Ее ставили очень давно. И заметьте: с одной стороны, это чистое фэнтези — подземный мир, его обитатели, а с другой — история взросления, когда впервые понимаешь, что такое трусость, предательство и как важно держать слово. Еще есть мысль поставить «Приключения Петрова и Васечкина». Почему? Чтобы показать, какие были времена, какие были взаимоотношения, каким был летний пионерский лагерь, что тогда считалось хулиганством. Это же совсем не то, что сегодня.
— Но на это вам могут сказать, что просто в советское время было не принято писать про настоящих хулиганов…
— Кто скажет? Те, кто родился сильно после перестройки. Они же в то время не жили. А я жил, знаю, какими были школа, пионерские лагеря, уличные компании. Да, бывало всякое, да, случались и серьезные вещи, но все-таки существовали красные линии, как сейчас принято говорить, за которые нельзя было заходить. Нельзя, и все. Да, покуривали, да, кто-то что-то пробовал из алкогольных напитков, но это была редкость. Существовало понятие допустимого и нет. Чтобы матом орать на всю улицу или, например, девочку обидеть. Никогда. Девочки — вообще отдельная тема. Это же тайна, у них все по-другому, какие-то свои секреты. И этим тоже хочется поделиться.
— Если мы заговорили о разнице поколений, ДМТЮА в этом году исполнилось 35 лет. Насколько сильно изменились дети, которые приходят к вам в театр?
— Конечно, дети поменялись, и довольно сильно. Первый набор был в конце 80-х, когда страна как раз переживала перестройку. Время было сложное, ничего толком не было. Но дети, как ни странно, были ярче, более жадные до информации, до знаний. При этом они были более образованными, культурными, так как школа была другая, классическая. И они, конечно, очень много читали. Но надо учесть, что тогда еще не было даже компьютеров, не говоря уже о мобильных телефонах и прочих гаджетах. А потому воспринимали слово, сказанное и написанное. Сейчас очень много нахватанности, разрозненных знаний. И это понятно, их окружает огромный поток информации, которая при этом дается в очень сжатом виде. Глубоко мало кто копает. Но главное отличие — современные дети значительно более прагматичные. Романтизма в них практически нет.
— А раньше был?
— Да, конечно. Они растут в окружении соблазнов, и это материальное очень сильно давит на них. А потому все нацелены на успех, на выгоду, на продвижение по карьерной лестнице. Сегодня мало от кого услышишь: хочу стать космонавтом, лесником, археологом, зоологом. Мол, че я, дурак, этим заниматься, это же невыгодно. Они уже в девятом, десятом классе точно знают, куда пойдут поступать, чтобы дальше стать менеджерами, экономистами и так далее.
— Разве плохо, когда человек знает, чего хочет?
— Плохо, когда мечты нет. Потому что даже те, кто нацелен продолжать актерскую карьеру, в первую очередь хотят стать известными и зарабатывать много денег. Они знают, сколько стоит съемочный день. Тут не до романтики.
— Вы сказали про экономистов, менеджеров. А зачем они приходят заниматься в театральную студию, пробуют себя в профессиональном театре, куда проходят довольно жесткий отбор?
— Они же далеко не всегда сами приходят, многих приводят родители. Нет, не для того, чтобы ребенок стал артистом, а для того, чтобы был занят делом. Причем хорошим и интересным. Все понимают, что здесь педагоги, круг общения, занятия, репетиции, спектакли, поездки, материал, в котором они варятся. Театр — это потрясающий коктейль роста. Опять же приятно, если ребенок выходит на сцену и работает. Много работает.
— Насколько плотный график?
— Официально занятия проходят два раза в неделю — с 16:30 до 21:00, но есть репетиционные дни и дни спектаклей, дни для индивидуальной работы. Так что нагрузка — вполне себе. Это же не кружок, когда «а еще мне петь охота», а серьезное заведения. У нас идут спектакли, как я говорю, на дикого зрителя, то есть не для пап и мам, дядей и тетей, которые по-любому будут аплодировать. Все по-взрослому, продаются билеты, и публика ждет качественный достойный продукт. Чтобы его дать, его нужно подготовить. И для этого трудится очень много людей — педагоги, постановщики, технические службы, администраторы. Большое количество взрослых работает, чтобы вышел спектакль, где главные роли исполняют дети.
— И дети чувствуют ответственность?
— Конечно, ведь у нас здесь дисциплина. Например, каждый ребенок, который проходит отбор из студии в театр, подписывает договор, где обещает соблюдать определенные правила, чего нельзя делать в театре. В частности, категорически запрещается употреблять нецензурную лексику, портить имущество, курить, в том числе вейпы и электронные сигареты, употреблять алкогольные напитки. У нас же есть и 11-классники, а им по 17 лет, и ничего человеческое не чуждо. Само собой, любое нетолерантное отношение к представителям других национальностей и религиозных конфессий, проявление любой жестокости как физической, так и словесной. Как ни странно, не разрешается без взрослых пользоваться лифтом, особенно это касается маленьких, кто, застряв, может сильно испугаться.
— Бедные, у вас же шесть этажей.
— Ничего, молодые, походят, разомнутся... Плюс в основном они проводят время на первых трех. Так что ничего страшного. Конечно, такой договор не имеет юридической силы (тот, который имеет, заключается с родителями), но в целях воспитания хорошо работает. Ребята должны осознавать степень ответственности.
Фото предоставлено пресс-службой ДМТЮА
— Судя по всему, вам именно за строгость над дверью кабинета повесили морду льва.
— Нет. Это просто потому, что я Львович и собираю разного вида львов. Кстати, у меня еще коллекция бронзовых детских фигурок, минералов и авторских кукол. Так что я не Карабас-Барабас, просто понимаю, что воспитание — дело важное и ответственное.
— И за скольких детей вы сейчас отвечаете?
— В труппе театра 170 человек и порядка 450 в театральных студиях. Всего их четыре: на Чистых прудах на сцене театра «Экспромт», на Бауманской, в нашем историческом здании на Малой Дмитровке и в Vegas City Hall. Там занимаются ребята от 6 до 17 лет. Плюс есть еще два отделения для дошколят, там те, кому от 4 до 6 лет.
— Получается, чтобы попасть в театр, нужно пройти отбор?
— Да, причем достаточно серьезный.
— Для тех, кого не отобрали, это же сильный удар?
— Это жизнь. Театр — дело хорошее, но жестокое. Мы не можем брать всех. Но мы максимально стараемся снизить моральные страдания. Мы никого никогда не унижаем, не говорим обидных слов. Если вы хоть раз бывали на конкурсе в театральный вуз, то вы знаете, что я имею в виду. Кроме того, сначала ребят отбирают педагоги в студии, причем ребенку четко дают понять, что это не гарантия того, что возьмут в театр, что ты будешь выходить на сцену в главных ролях, а шанс, что тебя заметят. У меня есть ребята, которые сейчас очень хорошо работают, играют в спектаклях, а были приняты в труппу со второго, а иногда и с третьего раза. Мы не пытаемся растить их в теплице. Опять же, чем раньше поймешь, готов ли ты заниматься этим делом профессионально, можешь ли, тем лучше. При этом могу сказать, что после нашей студии, а уж тем более после театра, поступать в театральный вуз проще. Опять же никаких гарантий, так как все бывает, неудачи случаются, плюс иногда дело просто в том, что тот педагог, который набирает курс, не видит тебя своим студентом. Я сам профессор сразу в двух институтах — во ВГИКе и в ГИТИСе, так что я точно знаю, о чем говорю. У меня последний раз пришло пробоваться на курс почти три с половиной тысячи человек, а взял я 27. Вот такой конкурс. Такая профессия — ты либо нравишься, либо нет. Тут никто никаких гарантий не даст. Есть желание быть увиденным, услышанным — пробуй!
— В чем преимущество ваших ребят перед сверстниками?
— Они не зажимаются, не прячутся в домик. Они привыкли к вниманию, к сцене, к тому, что их слушают, к взаимодействию со сверстниками. Театр — это искусство общения. Не будет общения — не будет театра. Общение с партнером, со зрителем. Опять же опыт, когда ты много раз оказываешься перед зрительным залом. Такое в теории не познаешь. А тут, например, выходишь в роли Тони Маркони, начинаешь петь, и все тебя слушают. Или не слушают. Начнешь заниматься ерундой — публика сразу почувствует. Зритель же все видит: и фальшь, и непрофессионализм, и волнение — все. Они тут не в игрушки играют. Если бы вы видели их перед выходом на сцену, как они собираются, концентрируются, настраиваются.
А какое испытание, когда на спектакль приходит целый класс. Такую публику и взрослому-то артисту сложно удержать. А здесь тем более, на сцене же сверстники, они думают, что перед ними такие же дети, как они, и не понимают, почему должны их слушать. Он пацан, и я пацан, чего бы его не утопить. Плюс они же компанией. Смех, разговоры, желание выделиться перед товарищами. Я, когда вижу, что на спектакль пришло много школьников, своих предупреждаю. Но все равно на сцену выходить — им, и зал держать — тоже. И это опыт. Плюс они привыкли бороться, у нас же здесь здоровая, но конкуренция. Так что, когда такие ребята приходят на прослушивание в институт, их сразу видно.
— А что такой опыт дает для «мирской» жизни?
— Умение себя подать, умение общаться никуда не денется, кем бы человек ни стал, хоть доктором, хоть экономистом. Он может найти общий язык практически с любым, так как привык работать с людьми. Он не стесняется, не комплексует, не прячется, не сжимается, если чувствует, что кто-то не слышит или не слушает. Ему не страшно показать себя, проявиться, выйти перед людьми, взять лидерство. То, чему мы учим, очень хорошие навыки для любой профессии.
— Чистые пруды — настоящая кузница молодых артистов. Прямо у вас под боком — Театральная школа Олега Табакова. Совпадение?
— С одной стороны, так сложилось, а с другой — театр притягивается к театру. Взять хотя бы Театральную площадь, где РАМТ, Большой и Малый театры. Вокруг нашего первого адреса на Малой Дмитровке и «Ленком», и Театр мюзикла, и МТЮЗ, и МХАТ. Так что два Львовича (я и Машков) на одной улице — это нормально, больше того, я еще под его руководством в секретариат Союза театральных деятелей вошел. Но вообще у нас весь район театральный: «Современник», Табакерка, Новое здание Табакерки, ДМТЮА, «Экспромт», Школа Табакова, Et Cetera. Не зря же Владимир Львович хочет здесь сделать театральный квартал.
Фото предоставлено пресс-службой ДМТЮА
— 20 марта во Всемирный день театра для детей и молодежи состоялась презентация уникального проекта «Культурный код/т России». Вы возглавили жюри. Чем вас привлек этот конкурс?
— Мы с вами в начале говорили о материале. Так вот, я как художественный руководитель детского театра довольно остро ощущаю дефицит современных пьес, где бы поднимались темы взаимного уважения, сохранения семейных традиций и так далее. Я на пресс-конференции сказал, что меня смущает такое количество чернухи, которое льется детям на голову, и что единственный выход, который часто предлагает современная драматургия, — это выход в окно. Нет, я не призываю замалчивать проблемы, но нужно искать, как об этом говорить. Помните, у Шекспира Гамлет говорит актерам, что назначения театра — держать зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости. Мы же последнее время в основном говорим о низости, а о доблести как-то забываем. Так что затея «Культурный код/т России» очень своевременная. Мне в целом кажется, что детям нужно уделять как можно больше внимания.
— В чем это должно выражаться?
— Это отдельный серьезный разговор. Но попробую ответить кратко. В первую очередь их нужно приучать к культуре. Должна быть в хорошем смысле слова мода на классику. Особенно на родную. Чтобы на вопрос «Назовите пять русских поэтов» молодой человек не ограничивался Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым. Детей нужно приучать слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино, ходить в театр, читать книги. Все говорят: а как можно приучить читать? Читать вместе с ними, притом то, что им интересно, постепенно добавляя серьезную литературу. Совсем необязательно в школе заставлять их читать Достоевского, Толстого. Станет вам легче от того, что они прочитают, а может, и вовсе прослушают «Войну и мир» в кратком изложении, ровно чтобы ответить на вопросы в тесте? Их нужно научить любить литературу, и тогда они сами все прочтут. Я в школе «Войну и мир» не читал, посмотрел фильм, и все. Впервые я взял роман в 24 года.
— Что подтолкнуло?
— Понял, как же так получилось, что я и не прочел это великое произведение. Затем вернулся к нему в 37-38 лет. В третий раз — когда мне было пятьдесят, и вот думаю сейчас, что после Диккенса и «Истории Дэвида Копперфилда» возьмусь снова. А если хватит жизни, то будет и пятый раз. Если в первый я просто воспринял это как занимательную историю, то во второй меня уже куда больше интересовали слова Кутузова о России, в третий — женская судьба Наташи, ее любовь к Пьеру, к Андрею. Сейчас, думаю, будет опять что-то новое.
Знаете, у меня и с музыкой нечто подобное. Я своим студентам всегда говорю: читайте, слушайте. Например, Шопен. Кто-то когда-нибудь разгадает код Шопена. Его ноктюрны и прелюдии — это разговор. За каждой нотной строкой, за каждой мелодией. Вдруг он тебе говорит, какое небо серое, и настроение у меня не очень, но меня согреет то, что все-таки я думаю о ней, о своей любимой девушке, какие у нее глаза. Это все есть в ноктюрне.
— Удается привить такой же интерес своим юным артистам?
— Мне кажется, что да. По крайней мере, я все для этого делаю. Я точно знаю, что в моем театре дети читают, учат стихи наизусть, слушают классическую музыку. И мне кажется, вот почему. Они видят, что я это делаю, и им хочется встать со мной вровень. Вдолбить ничего нельзя, можно только научить своим примером.
Автор: Ксения Позднякова, автор канала "Ксюша рекомендует"