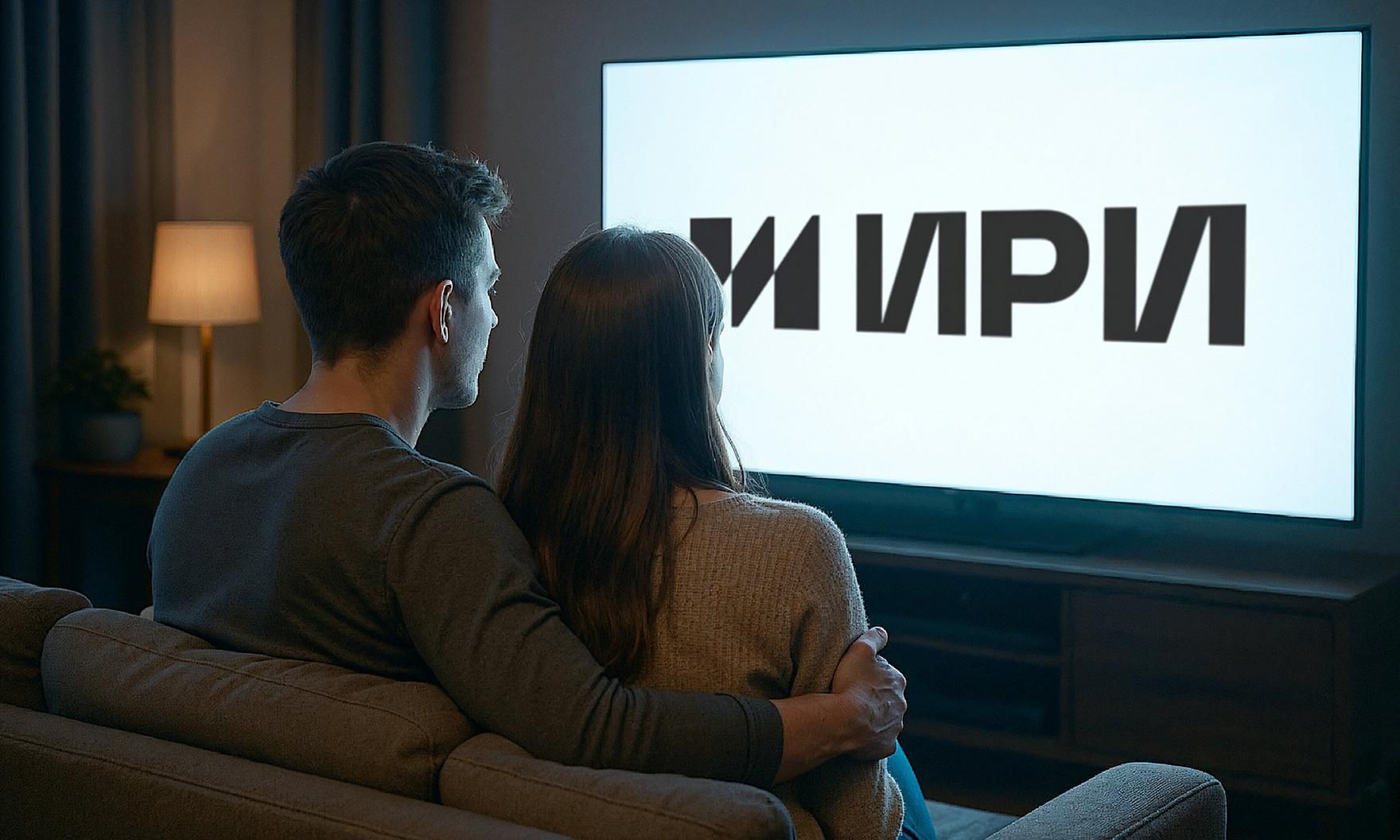25 мая в честь 85-летия со дня рождения Иосифа Бродского в зале «Зарядье» пройдет премьера музыкально-поэтической программы «Мрамор» в исполнении артиста театра и кино Владимира Кошевого. Автор идеи и режиссер — Михаил Елисеев.
IPQuorum встретился с Владимиром Кошевым и поговорил о том, зачем сегодня читать стихи со сцены, об античности как начале всех начал, сценических образах Тургенева, Сталина, Врубеля и Мейерхольда, социальных сетях и связях, а также о том, почему людям так сложно простить публичному человеку большую любовь.
— К юбилею Иосифа Бродского вы вместе с режиссером Михаилом Елисеевым готовите программу «Мрамор». Только что Евгений Цыганов выпустил спектакль с аналогичным названием. Как думаете, почему возникло именно это слово?
— Евгений Цыганов создал спектакль по пьесе. А наша программа хоть и называется «Мрамор», к пьесе с этим названием отношения не имеет. В нашем случае это подборка стихотворений, связанных между собой режиссерской мыслью и темой Античности. В некоторых стихах действительно упоминается мрамор, один из самых прочных материалов на земле. Опять же, стихи в мраморе — очень поэтичная метафора. Мрамор долговечен. Все пройдет, нас не будет, а все будут ходить и восхищаться искусством, застывшим в камне. Как восхищаются Петербургом, Венецией.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
— Почему решили обратиться к античности?
— Потому что это красиво, это начало всех начал. Когда зародилось римское право, принцип золотого сечения, комедия, трагедия — все, на чем сегодня основана наша цивилизация.
— Я с ужасом поняла, что Бродскому всего 85 лет. Нет ощущения, что он ближе к поэтам Серебряного века, чем к нам сегодняшним?
— Нет. В студенчестве на журфаке я был под впечатлением от его книг. У нас в компании было хорошим тоном парировать строчкой Бродского, потому что Иосиф Александрович был нашим современником. Его не стало, когда я был на втором курсе. Мы жили в эпоху Бродского и воспринимали его как поэта сегодняшнего дня. И сейчас точно так же. Он не давит вас интеллектом, а прячется за сарказм, иронию, которая, как известно, маска для беззащитных. Он настолько беззащитен при всей сложности натуры. Принимающий и понимающий день сегодняшний, он ищет ответы в прошлом. Кстати, это еще одна из причин, почему мы взялись за античность.
— Если я попрошу вас привести строчку Бродского, которая первая приходит на ум, что это будет?
— У всего есть предел: в том числе у печали.
— Почему?
— Вы же сами попросили первую, так это она.
— Помните, с чего началась ваша любовь к стихам Бродского?
— Конечно, сидела напротив меня красивая девушка. Чем ее покорить? Стихами Бродского!
— Есть сегодня потребность в стихотворном слове, звучащем со сцены?
— Она есть всегда. Если же вопрос в том, почему это интересно делать мне, то скажу честно, мне всегда хотелось читать стихи со сцены. Во-первых, я знаю очень много стихов, и было бы обидно, если бы эти знания пропали. Во-вторых, читать в кругу друзей и со сцены — совсем разные вещи. Мне кажется, что автор все время теряется. В основном идут на того или иного артиста, на то, как он читает. А я все-таки склоняюсь к тому, чтобы было меньше актерского и больше авторского. Хотя соблазн «дать артиста» очень велик. Именно поэтому со мной рядом режиссер Михаил Елисеев, который не позволяет проявиться моему актерскому эго. Опять же, у меня уже такой серьезный возраст, когда хочется меньше якать, хочется, чтобы звучал автор. Всегда нужно помнить про треугольник: автор, Бог и зритель.
Если говорить именно о Бродском, то очень важно соблюсти его строчку, ритм, не изменяя акценты мысли, которая у него сложная и витиеватая. Мысль Бродского — как матрешка. Ты ее открываешь, открываешь, и конца не видно, пока не дойдешь до точки. Сплошь запятые, и очень мало прилагательных, где актеру как раз есть где развернуться. Но тут это неприемлемо. Бродский ломает привычный ритм, как на американских горках, где невозможно подготовиться к следующему виражу, ведь строчка сломается там, где совсем не ждешь. Бродский тебя все время выворачивает, не позволяя болтаться на привычных ритмических качелях.
Опять же, Иосиф Александрович терпеть не мог, когда артисты читали его стихи. Есть знаменитая история, когда Михаил Михайлович Козаков записал пластинку на «Мелодии» и на радостях отправил ее Бродскому. Тот послушал и сказал: «Увижу Козакова, надену эту пластинку ему на голову». Я об этом всегда помню. До Бродского был определенный люфт, когда я читал Жуковского, Чуковского, Пастернака. Первую программу «Рождественские стихи» мы с Елисеевым сделали почти 20 лет назад, и она постоянно меняется, потому что меняюсь я. В 20 лет одни акценты, в тридцать — другие, а в сорок открывается нечто иное. И читать я стал по-другому, ко многому стал относиться более спокойно. Уже тот возраст, когда можно не кричать о любви.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
— Публика сильно поменялась?
— С одной стороны, мое поколение взрослеет вместе со мной. С другой — приходят совсем молодые люди. И хочется найти интонацию, чтобы она была понятна и молодому поколению, и моим ровесникам, и тем, кто постарше. А потому не стоит самозабвенно впечатывать каждое слово: мол, ты поняла, что я имел в виду.
— Может ли сегодня поэт стать звездой, как было с шестидесятниками, Иосифом Бродским, каким показывают Пушкина в «Пророке»?
— Мне кажется, что в целом время звезд прошло. Когда звезда доступна на уровне вытянутой руки, в Telegram или любой другой соцсети, флер, тайна уходит. Можешь посмотреть, кто где, что ест на завтрак, оставить любой комментарий от «а мне не нравится» до «я вами восхищаюсь» и засыпать человека картинками. И вот эта доступность и вседозволенность убивает загадочность, которая свойственна звездам.
— При этом вы сами ведете соцсети…
— Я это делаю скорее потому, что надо. Если бы можно было существовать в профессии без этого, то не вел бы. Я человек закрытый, интроверт. А потом, я попал в соцсети уже «взрослым», когда сформировался, когда стал уже кое-что понимать. Хотя я и там сам устанавливаю границы, ведь это моя соцсеть. Я не рассказываю, что ем, пью, с кем встречаюсь. Это псевдооткровенность, но тем не менее она разрушает тайну.
— Чем больше человек нравится, тем труднее с ним делать интервью, с материалом так же?
— Чем больше автора любишь, тем труднее с ним работать. Ты сам себя загоняешь в рамки правильности, а таких понятий, как правильно или неправильно, в творчестве не существует. Но ты волей-неволей хочешь соответствовать, а это тяжело. И потому некоторые стихи, которые я, быть может, и хочу прочитать, я не беру, потому что они получаются слишком личными. Мне трудно убрать себя. И потому они убираются режиссером из программы. А прикрываться поэтом, чтобы выявить себя, — дурной тон.
— Тогда поговорим о ваших героях. У вас и в фильмографии, и в театральной жизни много реальных лиц: Юсупов, Хлебников, Тургенев, молодой Сталин, Мейерхольд, Врубель… Отношение личное мешает играть человека, который реально существовал?
— Это всегда сложно. Например, на съемках фильма «Арт и факт» о русских художниках был затык с Михаилом Врубелем. В сценарии фильма он был очень схематичен и пуст. И эту пустоту мы с режиссером Олегом Гусевым пытались заполнить фактами так, чтобы образ стал интересен зрителю. Ведь кино — это не только диалоги, но и движения, мимика, пластика. Образ должен сложиться, я должен его увидеть. Ты можешь прочитать миллион книг, что было до, после, во время, и да, это обязательно, но если в сценарии образ не прописан, то все твои знания превращаются в пшик. Потому что ничего не заложено. И нам пришлось по ходу собирать образ из множества фрагментов, чтобы он был живым человеком, чтобы было понятно, в чем его трагедия. Чтобы сердце билось быстрее от понимания, что с Врубелем что-то произошло, но осталось за кадром. Но это кино. В театре еще труднее, там монтажа нет. И очень важно, чтобы режиссер увидел весь образ, весь спектакль целиком. С чего начинается, где пиковая точка, что с ним происходит и какой он приходит к финалу. Так было и в «Рождении Сталина», где я играю Сосо Джугашвили, еще только будущего Иосифа Виссарионовича. Так было и со спектаклем «Мейерхольд. Чужой театр». Мейерхольд — это калейдоскоп фактов из его жизни. Это реальная статья в газете «Правда», судилище, которое три дня шло в театре, после которого люди падали в обморок, выступавших выносили в истерике. И вот режиссер усаживает всех героев к зрительному залу спиной. Лиц мы не видим. И нужно было именно так показать, что происходит с героем. Как сменяется ощущение с «я царь и Бог, сейчас все решим» до понимания всей трагичности положения. И вот если режиссер не увидит изначально, как это должно быть, где будут острые моменты, переключения, изменения, которые происходят на глазах у зрителя, то ничего не выйдет.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
И это реальные люди. А я не похож ни на Врубеля, ни на Мейерхольда, ни на Сталина. И режиссер с художником придумывают, как сделать так, чтобы образ угадывался. Если я реально начну их изображать, то ничего не будет, нужно играть образ, намек узнаваемости, чтобы была какая-то характерная черта. При этом у меня нет задачи, как в пьесе Шварца, из «живого сделать еще более живого». У меня есть проблемы, которые здесь и сейчас решают Врубель, Мейерхольд, Сталин.
— А можно ли в принципе считать, что у этих людей есть реальная биография или это нагромождение мифов?
— Конечно, это такой караван историй. Михаилу Елисееву, после того как он сыграл в сериале Грибоедова, все говорили, что он безумно на него похож, на что Миша всегда отвечал: «А вы Грибоедова видели?» Потому что есть стереотипное восприятие портрета. И потому я очень благодарен Валерию Владимировичу Фокину, что в нашего Мейерхольда он позволил мне внести нечто свое. Впервые за годы работы.
Я прочитал у Марии Ивановны Бабановой, что она все бы отдала, всю свою жизнь — а интервью она давала в преклонном возрасте, будучи народной СССР, — чтобы вновь услышать от Мейерхольда «хорошо». Он так кричал на репетиции, когда ему что-то не нравилось. И это стало отправной точкой для меня. Плюс я, конечно, много-много-много вглядывался в него, в его портреты разных лет.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
В свое время художник Михаил Шемякин научил меня при подготовке к роли смотреть на картины не как зритель, а как творческая единица, с тем, что можно оттуда позаимствовать для себя. Так что это была серьезная работа «насмотреть» образ, наша профессия же во многом обезьянья. Нельзя же забывать, что Мейерхольд сам был гениальным артистом. Он любил, когда его репетиции собирают зрителей. Ему это было нужно. Например, Валерий Владимирович Фокин не разрешает никому присутствовать, есть артист, режиссер, максимум помреж. Потому что там творится магия. А Мейерхольд обожал. Он выбегал на сцену и сам показывал, что нужно делать. Артисты страшно обижались, потому что он был потрясающим актером. Они его даже шепотом на ухо просили: «Всеволод Эмильевич, ну дайте нам поиграть, мы же так не сможем». Это очень актерское. В этом есть даже нечто немного детское. Помните такой рассказ у Евгения Чарушина, где мальчик изображает врача и собирается лечить свою собаку, он надевает халат, берет карандаш и так далее. Ребенок представляет и делает так, как будто бы это по-настоящему. Он верит в то, что он доктор. Так вот любой артист, если он по-настоящему любит и искренне верит в то, что делает, он превратится на ваших глазах и в Тургенева, и в Мейерхольда, и в Сосо. И это не будет враньем.
— Сегодня открытые репетиции — привычное дела. А как вы относитесь к зрителям на репетициях?
— Мне кажется, что тут как с социальными сетями, о которых мы говорили. Чем меньше рассказываешь, сколько литров крови пролито, тем зрителю интереснее. Это убивает восприятие. Если перед просмотром фильма я узнаю, что на съемках сломалось 100 карет, то я буду думать: а мне сейчас какую карету показывают, первую или тридцать пятую? А может, на монтаже их местами поменяли. Я не хочу это знать. Я хочу верить. Например, в фильме «Золушка» Надежды Кошеверовой, актрисе, игравшей главную героиню, было значительно больше лет. И что это меняет? Что, она играет от этого хуже? А знание это отвлекает.
— Если вернуться к Всеволоду Эмильевичу, что вам было наиболее близким и эмоционально больным в образе Мейерхольда?
— Преданность, любовь и вера в свою женщину. Это как надо поменять и подстроить всю свою жизнь, идти против всех, чтобы поддерживать миф, что она самая лучшая актриса. Это самое близкое. А трудное, наверное, то, что я знаю всю его судьбу. Если бы не знал о трагическом финале, который его ждал, мне было бы легче. А так как я все это знаю, понимаю, где можно промолчать, где поступить более рационально, осторожно. Хотелось, чтобы была машина времени и можно было бы все исправить, подсказать, уберечь и так далее.
— Думаете, что если бы где-то смолчал, то судьба бы кардинально поменялась?
— Почему нет. Я не верю, когда говорят, что судьба уже написана, запрограммирована и ничего нельзя изменить. Ничего не остается без последствий. Как говорил Михаил Козаков, если камешек был брошен в воду и пошли круги по воде, значит, из точки А выйдет трамвай, Аннушка прольет масло и вся цепочка случится.
— Можно подходить к оценке их жизни с мерилом дня сегодняшнего?
— Нет, конечно, как и притягивать ко дню сегодняшнему любой исторический момент. Он на то и момент. Что было ровно тогда, в тех конкретных обстоятельствах. И так же, как нельзя придумать машину времени, так и нельзя из других обстоятельств, значительно более комфортных, рассуждать, что и как нужно было делать.
— А если бы все-таки была машина времени, вы бы куда отправились?
— В будущее. Узнать, что будет, гораздо интереснее. И опять же лучше быть первым в будущем, чем неизвестно каким в прошлом.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
— Что, даже не хотели бы заглянуть на репетицию к Мейерхольду?
— Нет, пусть останется легенда. Говорят, Сергей Дягилев запрещал фиксировать на кинопленку свои балеты, поэтому «Русские сезоны» навсегда остались красивым мифом.
— Вы сказали про веру в любимую женщину. Разве Зинаида Райх была плохой актрисой?
— Она была, безусловно, талантлива, умна, но рядом была Мария Бабанова. Но вера, любовь и преданность Мейерхольда ее, конечно, очень приподнимала.
— Но ему этой любви не простили, так же как Тургеневу. Почему принято скорее ставить в упрек, когда мужчина сильно любит женщину?
— Люди в большинстве своем не любят счастливых, потому что в этот момент понимают, как несчастны сами. Многие не могут порадоваться за счастливых людей. Это из серии «я за них рад, но не от всей души». Именно поэтому, кстати, о любви не стоит кричать, и у нас принято говорить, что счастье любит тишину. Счастья не прощают. Как говорила Людмила Гурченко, успех в коллективе — это когда ты соответствуешь правилу трех «Б»: бедный, больной, бездарный. В этом случае тебя все любят, ты всем удобен. А если ты независим, не оглядываешься по сторонам, веришь в то, что делаешь, предан одной женщине, несмотря ни на что, двигаешь ее вперед, ставишь ее на главные роли, выстраиваешь все пространство так, чтобы оно работало на нее, такое редко кому нравится. Почему это воспринимается как слабость? Потому что так проще. Это стереотипное мышление.
— Люди не любят счастливых. То есть поэтому все истории любви, которые попадают в романы, в основном про несчастливые отношения?
— Конечно.
— Психологи утверждают, что счастье — это выбор, несчастным быть проще.
— Как писал Достоевский, выбор — это трагедия русского человека. Вечный вопрос «быть или не быть», «пойти или не пойти», совершить поступок или не совершить, да даже просто позвонить, не позвонить. А самый главный грех по Булгакову — трусость. Не совершить поступка, как Мастер. Поэтому да, выбрать счастье — это нелегкий выбор.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
— Насколько сложно играть такую большую любовь, как у Тургенева к Виардо, у Мейерхольда к Райх?
— Нет, не трудно. Я об этом вообще не задумывался. Любовь не играется, она либо есть, либо нет. Мне кажется, когда задумываешься, трудно или нет, это уже не любовь. Если в глазах ничего нет, играй не играй, придумывай не придумывай, ничего не выйдет. Придумками разными режиссерскими можно прикрыть все, кроме нелюбви. В Театре Наций я играю Астрова в спектакле «Дядя Ваня», где у меня три разные партнерши. Елену Андреевну играют Лиза Боярская, Юлия Пересильд и Марина Александрова. Если я изначально буду любить какую-то одну, а потом накладывать трафарет на остальных, то грош мне цена как артисту. Поэтому когда я выхожу с Сати Спиваковой в «Метафизике любви», то, кроме нее, никого не существует, в «Чужом театре» — никого, кроме Олеси Соколовой-Райх, и каждую Елену Андреевну я хочу увести в леса. И это очень сложный вопрос, хотя я и ответил, что нетрудно. Но с каждой актрисой все индивидуально. Просто играть любовь нельзя.
— Вы говорите, что зрительская любовь не вечная и нужно поднимать планку. Но при этом вы же говорите, что ни одна роль не дается легко. Чем платите за это?
— К сожалению, здоровьем. Организм все впитывает на самом деле, и ничто не остается без последствий. У Давида Самойлова есть такие строки: «И что, порой, напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься…» Это же можно по-разному прочитать. Я поздно понял, что нужно беречься. И я учусь отдыхать. Я стараюсь. И это вопрос дисциплины. Как себя вытаскивать из состояния апатии, усталости, нездоровья, чтобы на сцене быть веселым, здоровым и прекрасным. И при этом нести мысль и понимать, что ни у Достоевского, ни у Чехова нет потолка и можно играть спектакль до 100 лет, главное, чтобы хватило здоровья. И вот для этого нужно беречься. Нельзя выпить в компании друзей и гулять всю ночь на вечеринке, если завтра у тебя сложнейший спектакль; нельзя приехать в Петербург за три часа до спектакля, так как мне нужно время, чтобы была тишина, чтобы не работал телефон, чтобы настроиться и сыграть Сталина. Спектакль начинается задолго до него самого. «Мейерхольд», как новый премьерный спектакль, — за пару дней. Остальные меньше.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
— В чем главное удовольствие от работы с Валерием Владимировичем Фокиным?
— Это рост. Каждый раз это белый лист, потому что ни один спектакль не похож у него на другой. Если взять «Женитьбу», «Чужой театр» и «Рождение Сталина», то, как говорит моя подруга, такое ощущение, что ставили три разных режиссера. И это меня привлекает. С ним абсолютно нет уверенности, что ты все можешь.
Фото предоставлено Владимиром Кошевым
— В чем счастье актера?
— Попасть в режиссерскую мысль, смотреть с ним в одном направлении и делать больше, чем он от тебя ожидает. Фокин говорит, что надо работать на 180 процентов. Но с ним всегда хочется выложиться на двести.
— Антон Павлович Чехов писал, что «без театра нельзя». Зачем люди сегодня ходят в театр?
— За всех не скажу. В детстве я ходил в театр за другим миром — сказочным и волшебным. Я и не думал, что на артистов учат, мне казалось, что это боги. Когда еще чуточку вырос, стал ходить на великие имена — Някрошюса, Туминаса, Волчек. Сегодня очень востребован и популярен легкий жанр — мюзиклы и комедии, потому что люди хотят отвлечься от политической повестки дня. Театр — это обмен живой энергией между зрителями и артистами, возможность увидеть себя или ситуацию со стороны, ответить на вопросы, которые тебя волнуют. Театр нужен для того, чтобы человек оставался человеком.
Автор: Ксения Позднякова, автор telegram-канала "Ксюша рекомендует"