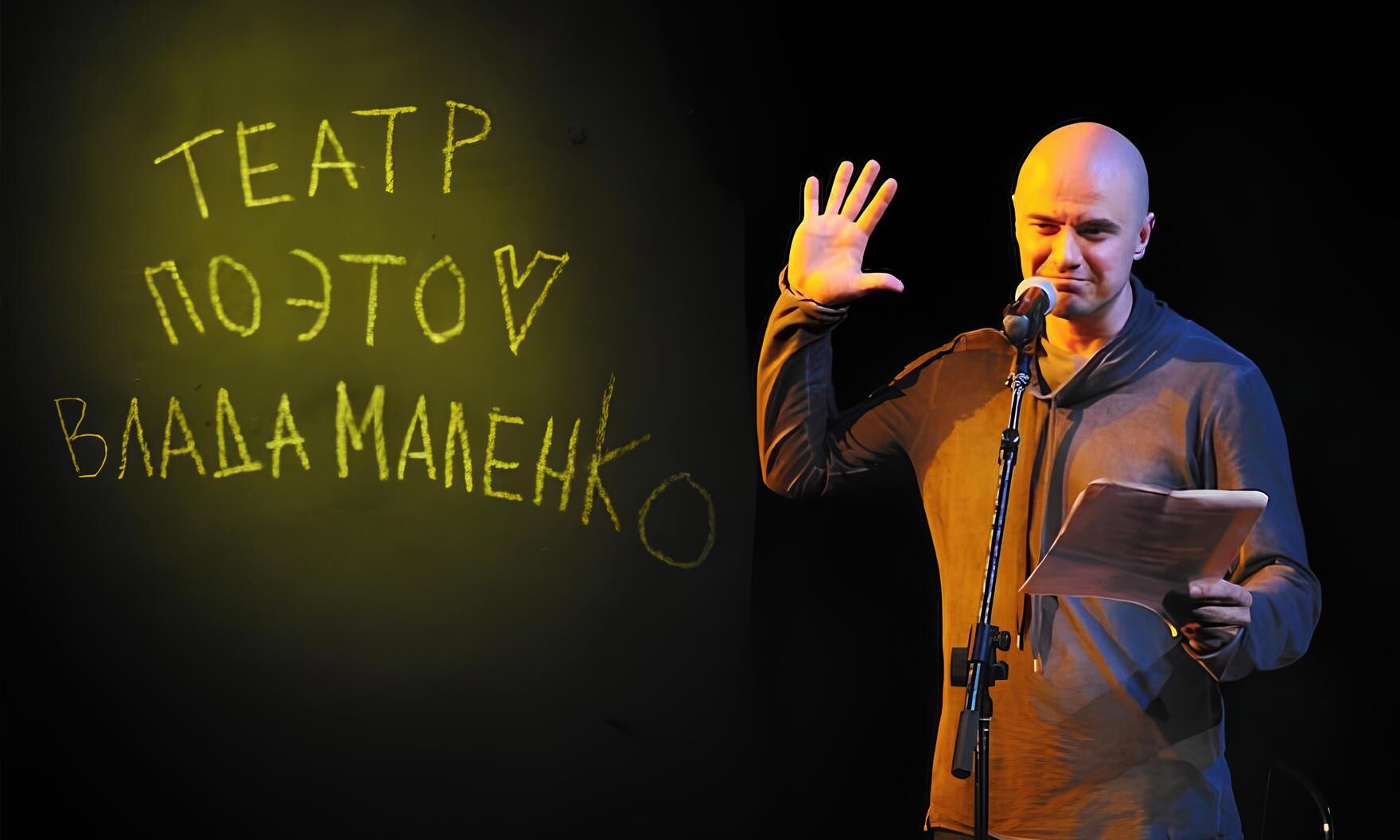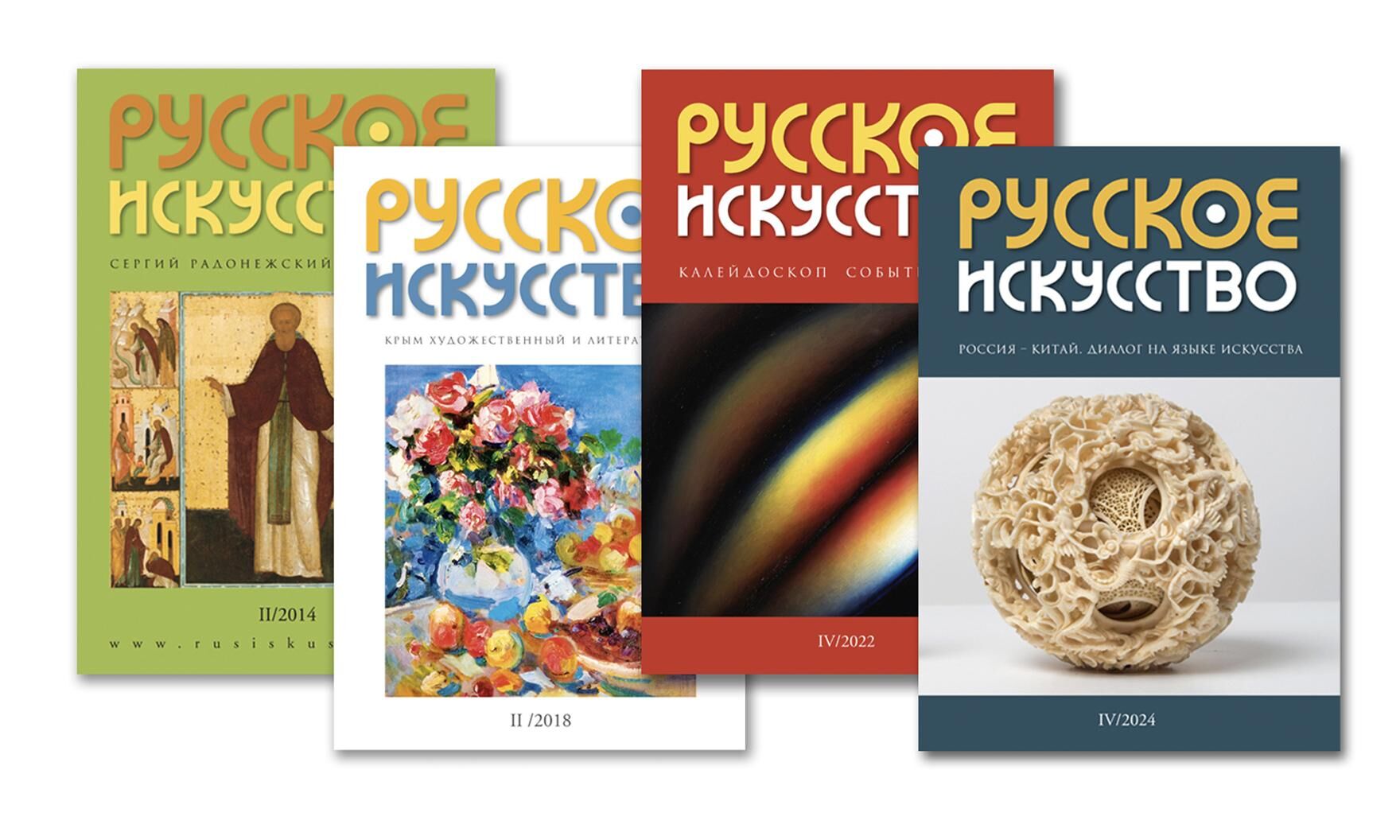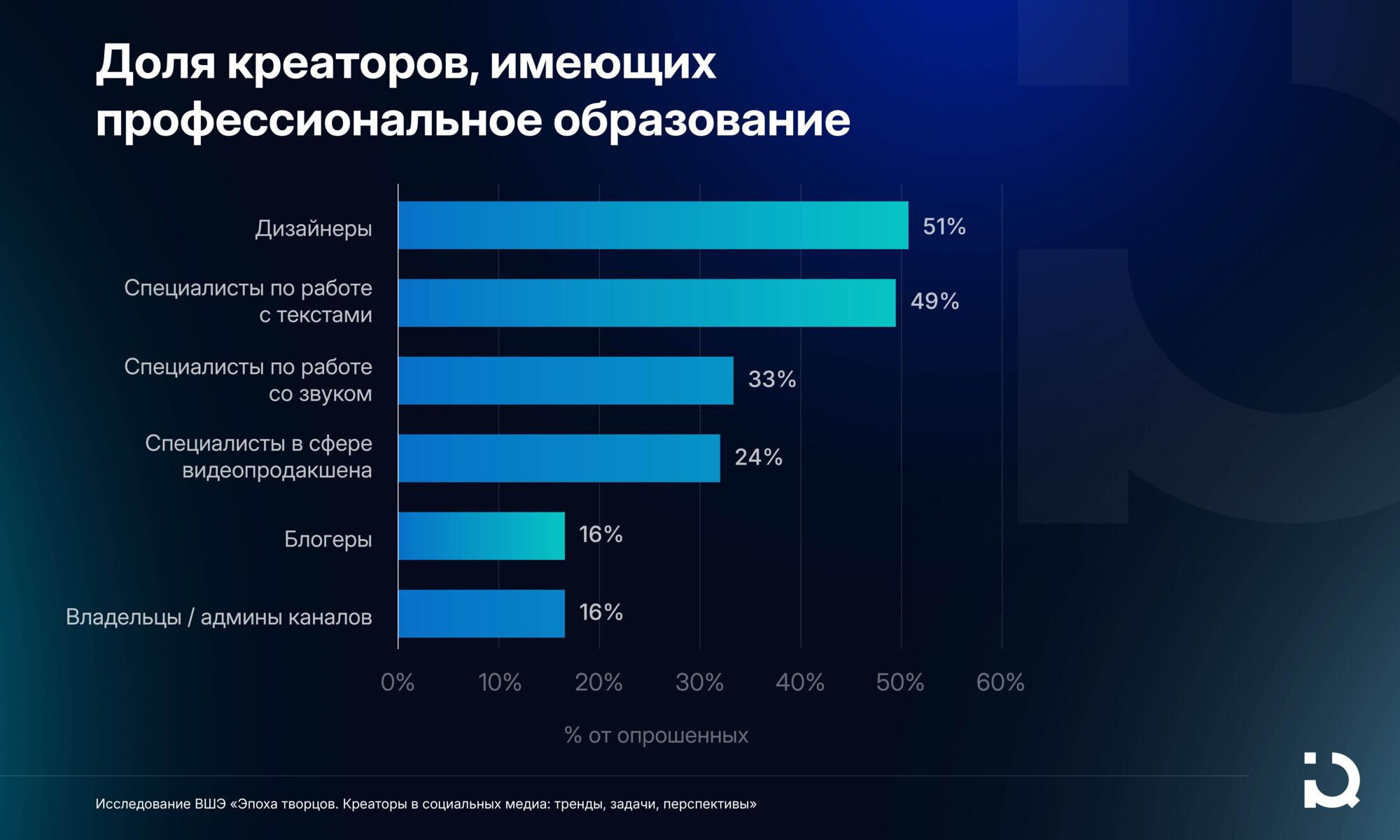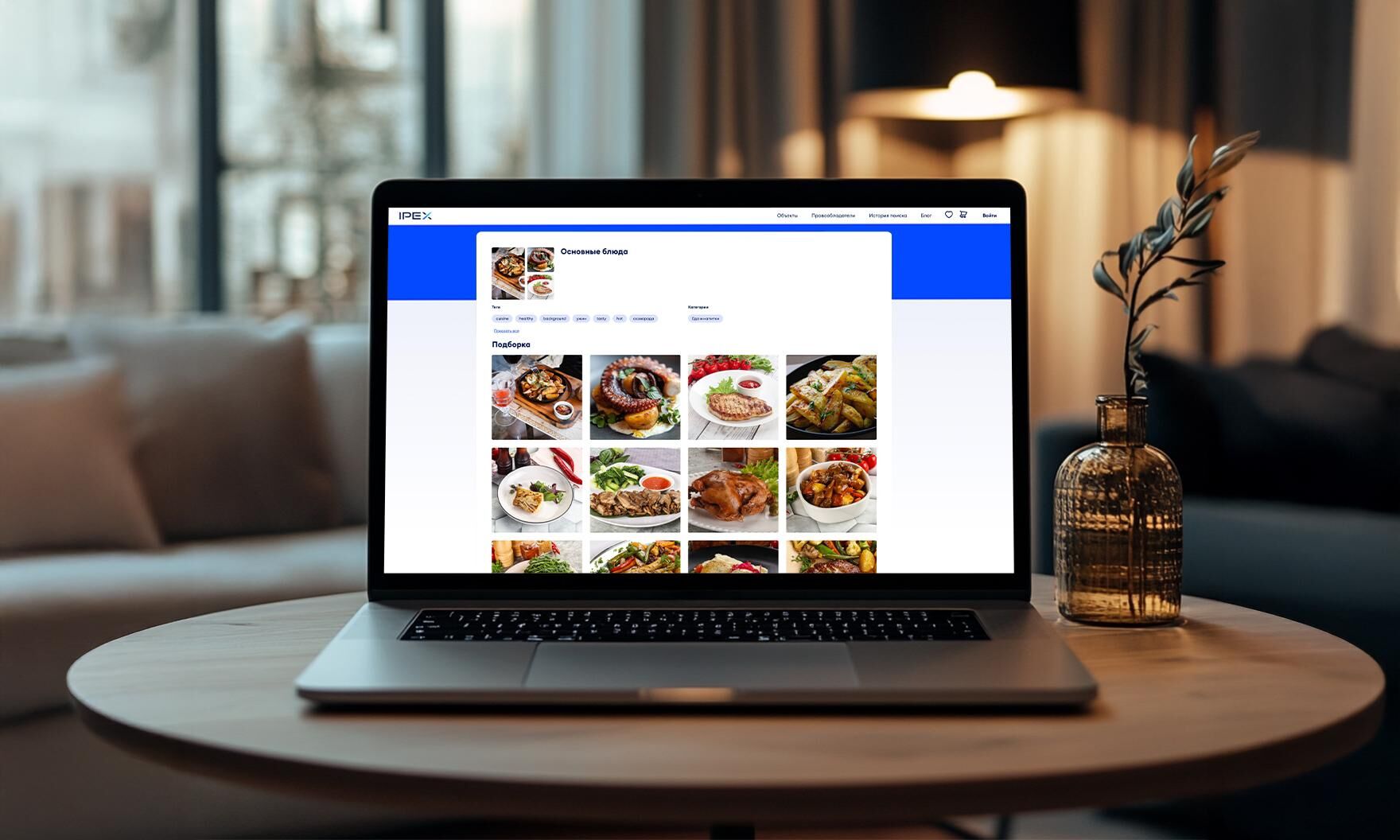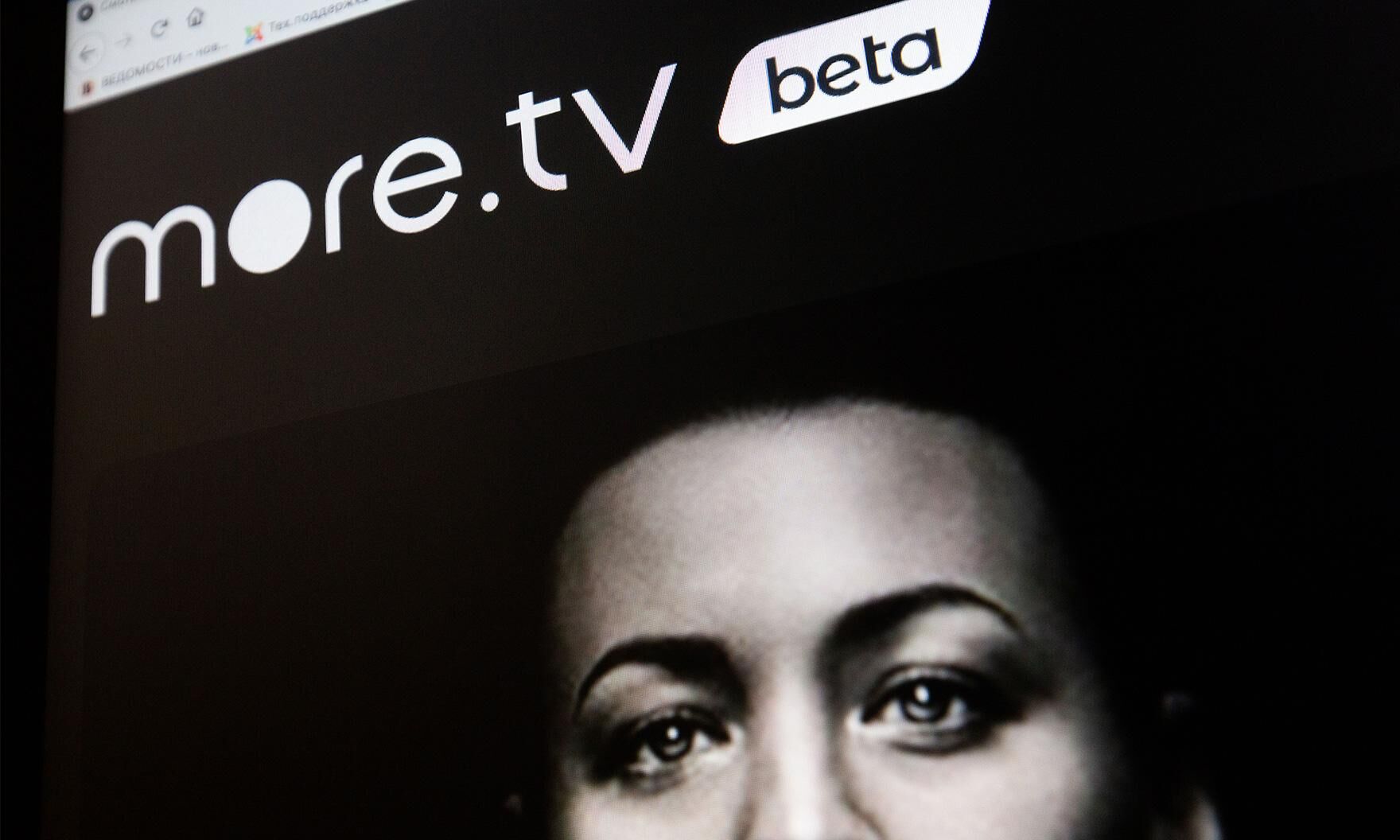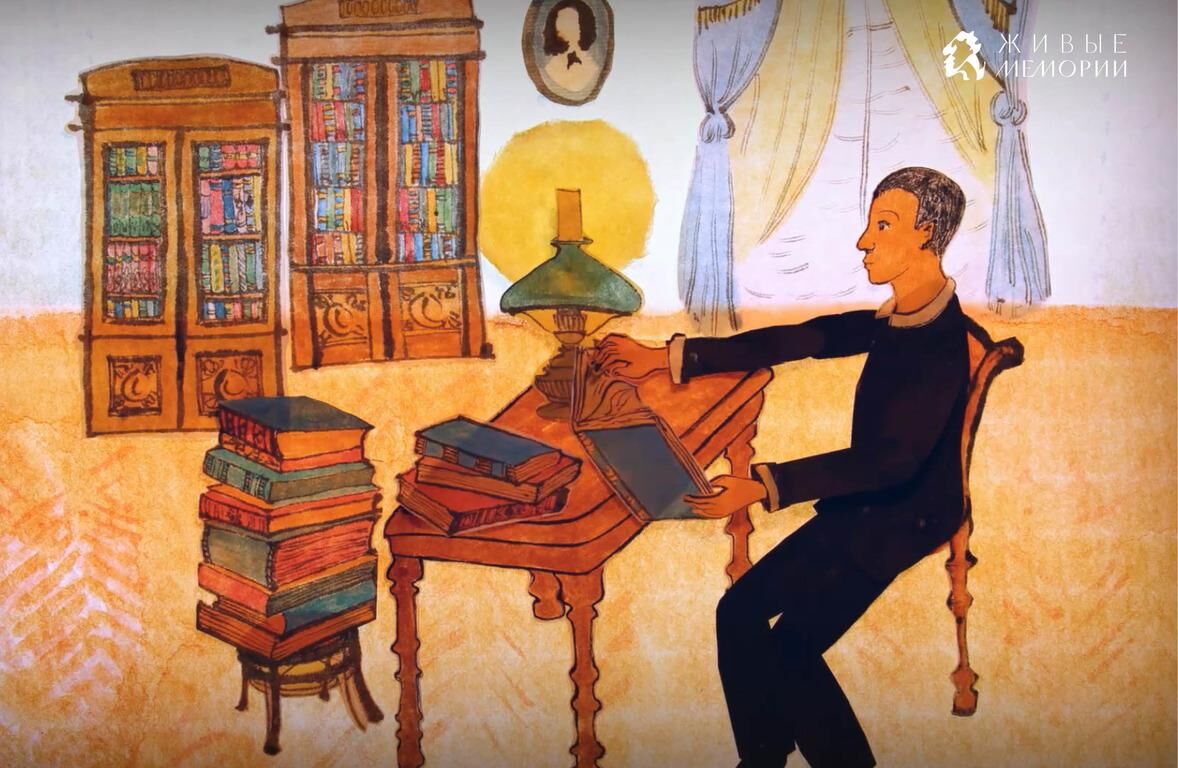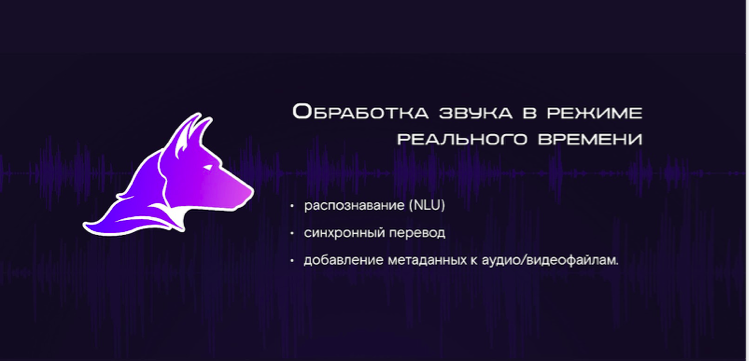О гранях личности Влада Маленко можно говорить очень долго — поэт, создатель жанра современной басни, в прошлом актёр легендарного Театра на Таганке, Заслуженный деятель искусств РФ. Сейчас активно занимается продюсерской, режиссерской деятельностью, выступает в роли ведущего — в том числе амбассадора нового сезона проекта «По классике. Тайны великих шедевров», который легко рассказывает о сложном, знакомит молодую аудиторию с культурным наследием доступным и понятным ей языком.
Влад также является художественным руководителем Московского театра поэтов, Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Л. А. Филатова «Филатов Фест». За всеми этими гранями стоит интересный живой человек, способный впечатляться, удивляться, наблюдать и тонко чувствовать мир. В интервью IPQuorum он рассказал о главном проекте своей жизни, сверхвнимании к реальности, молодых поэтах и слушателях, о том, почему басня сыграла для него судьбоносную роль, и может ли современная поэзия зазвучать так громко, как когда-то звучали стихи Евтушенко и Ахмадулиной.
— Влад, не так давно, 20 марта, вы получили Гран-при национальной премии «Поэт года». Вы уже сами много лет вручаете награды молодым ребятам на «Филатов Фесте». А насколько важны они для вас, продолжают ли мотивировать?
— Дастин Хоффман, получая одну из своих премий, сказал: «Пока я буду объяснять вам, почему я первый, я могу стать вторым». Я стараюсь философски относиться к премиям и наградам, впрочем, как и к тумакам, «ударам» и завистливым крикам, которые тоже иногда устремляются в мою сторону. Премии, церемонии – это определенная линия социальной жизни, и мне она интересна как общечеловеческий «театр», в который мы играем всерьез. «Как играют овраги, как играет река», вспоминая слова Пастернака. Это часть взаимоотношений с мирозданием, с людьми. И из уважения к коллегам, конечно, нужно включаться в такие процессы, а не сидеть в деревне, в глуши, гордо от всех отдалившись. Кроме того, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, какого человека встретишь на одном из таких событий, кто вдруг обратится к тебе с какой-то просьбой, важной для твоей судьбы.
— А хочется иногда посидеть в деревне, в глуши, как вы выразились? У вас очень активная деятельность, нужно ли время для восстановления?
— Конечно. Я только так и делаю. Вот сейчас поговорю с вами и обязательно окажусь где-то в тишине. Без тишины, взаимоотношений с природой, особенно весной, жить невозможно. Мне важно проследить, какие птицы прилетают первыми, какие вторыми, что они «говорят» мне на своем языке. Я постоянно выхожу посмотреть, какого размера почки у вишни рядом с домом, у кустов смородины, сливы. Очень внимательно за всем этим наблюдаю, как будто за людьми. И из этих наблюдений порой тоже рождаются слова для произведений. Все мы – люди, которые взаимодействуют с миром художественно, обречены на одиночество. У актеров, например, другая стезя, поэтому я принципиально в 40 лет оставил свой актерский путь, чтобы встать на путь авторский, режиссерский, продюсерский. Правда, мне все равно говорят, что актер из меня никуда не «ушел» (улыбается). И это естественно. Мне кажется, выходя на сцену в любой роли, очень важно быть внятным. Можно вспомнить, как прекрасно выступал Достоевский, читая свою «Пушкинскую речь», как ярко светил Маяковский. Я благодарен Великой Школе Малого театра и Театру на Таганке, которые дали мне этот навык.
Фото предоставлено пресс-службой проекта "По классике"
— Вы стали одним из амбассадоров проекта «По классике. Тайны великих шедевров». Чем вас заинтересовала эта история? И в чем, на ваш взгляд, ее ценность для современной аудитории?
— Для меня это прежде всего история про любовь и доверие к человеку, который создал проект, — к Елене Кипер, и я искренне признаюсь в своих чувствах этой красивой, умной, талантливой женщине. Это как вместе прыгнуть с парашютом. Казалось бы, про классиков невозможно сказать что-то новое, но часто образ того или иного писателя, художника, живописца, композитора состоит из неких штампов и общих положений, которые прививались нам со школьной скамьи и за которыми не видно жизни. Здесь мы постарались с другой стороны посмотреть на классиков — как они одевались, что им снилось, какими они были в реальности. Посмотреть на них не как на музейные фигуры, а на живых людей со своим характером, привычками.
Кроме того, я все чаще замечаю, что молодежь говорит на своем языке. У этого поколения свои жесты, свои лица, свой стиль одежды. Я не хочу отрываться от них, хочу, чтобы мы чуть лучше понимали друг друга. В своих выпусках о поэзии у меня есть возможность рассказать им о том, что я хорошо знаю и люблю, на их языке и немного вспомнить, каким я был в 17 лет, вернуться к себе самому в том возрасте. Ведь я тоже столько всего не знал и, может быть, чувствовал по-другому — где-то острее, а где-то мне еще не хватало каких-то связующих ниточек с миром. Я воспринимаю этот проект как некое наставничество, миссию, учительство. Представьте, что вы приехали в деревенскую школу. Ребята галдят, кричат, и тебе нужно заслужить их доверие. Сегодня у нас были съемки трех эпизодов, и в зале были молодые зрители, юноши и девушки. Я подошел к ним и спросил: «Вы тут не умрете со скуки?» А потом смотрю, во время съемок у них загорелись глаза. Вот это было самое важное для меня.
— Продолжая разговор о наставничестве, вы много раз рассказывали, как носили свои первые стихи Леониду Филатову. Считаете ли вы его своим учителем? И вообще, какое оно – понятие учительства в поэзии?
— Ежедневное чтение, взаимодействие с великими авторами прошлого – это всегда моя ученическая парта. Конечно, я считаю Филатова одним из важных людей в своей судьбе, но все-таки хочу назвать имя магистрального человека, которому я приносил стихи, который мне открывал новых авторов, мир поэзии, расширял для меня эту дорогу, верил в меня. Это Наталия Александровна Пластинина-Стаднюк. Если бы не она, может быть, сегодня вы бы пришли брать интервью, например, у архитектора Маленко. Я точно был бы в художественном процессе, но меньше внимания уделял такому прекрасному и большому делу, как литература.
Недавно мы беседовали с Захаром Прилепиным. Он спросил, кто повлиял на меня, но попросил не говорить общие слова, а назвать авторов, которые, возможно, не всем открываются. Я ответил, что люблю Сашу Черного, Бертольда Брехта, Гийома Аполлинера, Артюра Рембо, Владислава Ходасевича, всегда возвращаюсь к Блоку. Это тоже мои учителя. Я уже молчу про Пушкина: это моё море, в котором я чувствую себя корабликом. А недавно я перечитал «Анну Каренину» и был ошеломлен своими новыми открытиями в 50 лет. У меня появилась целая теория о том, как Лев Николаевич создавал это произведение.
— Поделитесь?
— Мне кажется, Толстой взял сто карточек размером примерно А4, разложил их в поле или на огромном столе и на каждой написал какое-то явление человеческой жизни: «рождение человека», «смерть человека», «признание в любви», «мужское общество», «скачки», «венчание», «экономическое устройство России», «карьера в таком-то возрасте», «мужское пьянство», «тетушка и бабушка», «две женщины вместе» и так далее, а герои лишь обслужили эти философские воззрения великого Толстого. И это сделано с такой живостью, с которой мог только он. Главные герои романа — это, конечно, Левин и Катя. И произведение написано взятым у французов-экспрессионистов необыкновенным словесным маслом, необыкновенной «живописью».
— Интересный взгляд. А о каких направлениях и творцах вы будете говорить в проекте «По классике»?
— Сегодня я предложил съемочной команде, пока мы настраивались друг на друга, искали ритм своих взаимоотношений: «Давайте начнем с Пушкина? Он мне и поможет, и шутить с ним можно, и дурачиться, и ошибиться он позволит». Знаете, Пушкин прощает ошибки, а я их люблю, я весь состою из ошибок. Это такие «животные», похожие на ежей. Если перестать их бояться, они будут очень дружелюбными. В общем, сегодня мы записали выпуск про Пушкина и весь Золотой век, про Есенина и Маяковского. Вот такие парни. Каждый — глыба, и каждый со своим характером.
— Учитывая, что вы в буквальном смысле человек слова, участвовали ли вы в создании сценариев выпусков? Или этим полностью занималась команда проекта?
— Конечно, это была большая коллективная работа. Мы встречались, и не раз, обсуждали, я наговаривал какие-то свои мысли. И люди, которые писали сценарий, читали мои произведения. Не только поэтические, но и, например, книгу «Смеяться последним. Записки играющего писателя», где собраны мои заметки и дневниковые записи. Более того, уже во время съемок я иногда говорил: «О! А вот здесь буду говорить от себя!» Мне доверяли, и я целыми кусками выгружал свои мысли, которые потом могли бы не повториться, потому что рождались в моменте. Я считаю, у нас с командой произошла хорошая сцепка.
Фото предоставлено пресс-службой Влада Маленко
— Где сейчас еще находится фокус вашего творческого внимания? Над какими проектами вы работаете?
— Как для человека, который занимается поэзией, то, что продолжается непрерывно, — это сверх внимательное наблюдение за реальностью. Сейчас мы сидим в кафе, и я замечаю черточки на вашем платье, цвет глаз, то, как звенят стаканчики, как изменился, говоря языком киношников, режим солнца. Этот процесс продолжается 24 часа. Иногда даже хочется спрятаться от него, расслабиться, но он все равно постоянно следит за тобой, как волк-охотник. То пробежит, то посмотрит хитро – постоянно играет с тобой.
Говоря о конкретных активностях, у меня всегда параллельно в работе около 12-15 проектов. От сатирических телеграм-каналов до большого фестиваля, от праздника 9 мая, на котором у меня очень ответственная миссия, до космического фестиваля, недавно прошедшего в Калуге, от московских до всероссийских проектов, от восстановления детского мюзикла до создания нового музыкально-поэтического мистериального спектакля будущего. Также скоро в Москву приезжают коллеги из Китая, которые перевели мой «Ржев». Я не раз был в Китае, там очень интересные авторы, специалисты в университетах, и мне интересно такое сотрудничество. А еще, как и люди, со мной вместе всегда города. Я думаю о Владивостоке, о Калининграде. Одновременно мое сердце сейчас в Севастополе. Мой самый главный проект, рабочий кабинет — дорога. У меня есть стихотворение под названием «Сколько времени». Его читает актер Михаил Пореченков в начале фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время», который сейчас идет по миру. Там есть такие строчки: «"Сколько времени?" – курица спрашивает у яйца». И вот ты едешь по русской дороге, а на полустанках бабушки торгуют курицей и яйцом. Ты можешь проехать 200, 300 км, а они все будут чередоваться — курица, яйцо, яйцо, курица. Вечный вопрос, что было в начале. И есть в нём какое-то русское бессмертие.
— Можно ли ждать нового проекта, связанного с баснями?
— Конечно! Как раз сейчас мы запускаем новый сетевой проект «Басни Влада Маленко», где интересные художники, мультипликаторы предложили определенную форму, в которой басни читает сам автор. Надеюсь, все получится. Важно еще упомянуть проект «Артмеханика» — творческую лабораторию, которая создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и объединяет талантливых молодых музыкантов и поэтов. Сейчас проходит второй этап большого и тоже очень дорогого для меня проекта «Царь-Пушкин», которому я дал старт. Также я очень благодарен руководителям страны, которые запустили национальную премию «Русские маяки» – для меня, как для человека, сочинившего поэму с таким названием, это очень ценно. Я люблю и свои большие общественные проекты, и более локальные, камерные, потому что нет больших и маленьких явлений, когда они находятся в зоне твоей любви.
— Сейчас идет прием заявок на 11-й «Филатов Фест». Как он развивается, меняется с годами? Какие тенденции вы можете отметить?
— Раньше ребята были более инфантильными, было больше такого безответственного детского популизма. Сейчас появляется какой-то правильный «серьёз», объём, что, конечно, не отменяет и шуток, и радости. Много супер-поэтов не бывает, но я всегда отмечаю тех, кто, пусть еще неловко, неумело, но ищут свою колею, свою дорогу. И пусть у них не самая лучшая «колесница» и не «гоночный автомобиль», но я вижу, что они построили какую-то свою машину, которая так или иначе поднимается в гору через камни и препятствия. Вот это дорогого стоит. И так важно на первых этапах не пропустить таких ребят, какое-то гениальное слово, не пропустить удивление. Ребята читают одни и те же стихотворения по несколько раз, в том числе вслепую, чтобы над нами — членами жюри не висело известное уже имя или фотография красивой девочки. И иногда я говорю коллегам: «Подожди-подожди! Ну это же интересно! Ну давайте оставим?! Все равно же потом вылетит». А может, и не вылетит. Я всегда говорю ребятам, что это в любом случае игра. Даже апостолы кидали жребий. Что уж говорить про нас.
— Что сейчас происходит в Московском театре поэтов? И вообще, жив ли сегодня поэтический театр?
— Безусловно, жив. Единственное, возвращаясь к разговору про штампы, некоторые думают, что театр поэтов – это какое-то здание с колоннами, фонарем у входа, вахтерами и женщиной с номерками. Ничего такого у нас нет. Мы – цыганский шаробан, румынский вагончик. Да даже не вагончик, а просто группа людей, которые любят друг друга и всегда находятся в дороге. Так могла бы называться гастролирующая рок-группа — «Театр поэтов». Или какая-то небольшая коалиция художников. Я сейчас разговариваю с вами, а кто-то из наших ребят едет в Донецк, кто-то выступает с проектом «Современники и классики»: в нем поэты читают свои стихи, а актеры отвечают им произведениями великих предшественников. Например, выступает Саша Антипов, а ему вторит Блок, Роману Сорокину — Марина Цветаева. Вот такие перехлесты, которые очень нравятся зрителям.
Фото предоставлено пресс-службой Влада Маленко
— Из года в год абитуриенты при поступлении в театральные ВУЗы продолжают читать ваши басни. Как вообще родился жанр современной басни?
— Не хочется «якать», но, конечно, с помощью Влада Маленко произошел зримый скачок во времени (улыбается). Говоря о влияниях и моем развитии в этом жанре, я не просто так упомянул Сашу Черного. Конечно, я люблю Крылова с его легкостью, который наполнил жанр басни большим смыслом, переводя или отображая на свой манер то, что до него сделали древние греки и Лафонтен. Я всегда любил Сергея Михалкова и очень горжусь тем, что он написал предисловие к моей первой книге басен. Жанр басни очень тяжелый. Я был бы рад, если бы сейчас мне удалось написать еще несколько басен, но пока это трудно. Для создания басни всегда нужно бесстрашие и сила, а еще такой уровень формализма, при котором тебе верят и смеются. Смеховая культура – дело непростое, особенно когда ты держишь уровень и не сползаешь куда-то ниже пояса.
Конечно, было приятно, когда недавно мне сказали очень важные слова, что сегодня многие люди слушают поэзию благодаря мне, что мне удалось продвинуть ее и на официальном уровне, и не на официальном, все это соединить. Опять же – я пытаюсь спокойно относиться к таким похвалам. Но про басни точно скажу, что они стали для меня очень важным этапом, тем более я начал писать их, когда был в раздрае, в сложный период жизни. Тогда мне говорили, что я не пропаду, а мне казалось, что пропаду, был на краю. И басни — это моя спасительная волшебная палочка. С их помощью я, как Мюнхгаузен, вытащил себя из болота.
— Мне кажется, сказительная басенная манера содержит в себе настоящий русский код, что-то в ней есть про русскую душу…
— Да — это скоморошье отношение к себе, в котором много мудрости и горести одновременно. Помните, даже фильм Тарковского «Андрей Рублев» начинается с появления скомороха, великого актера Ролана Быкова. Но, несмотря на глубину жанра, я стараюсь не передавить, делать легче… Это можно ощутить на спектакле «#осторожнобасни», который уже пять лет идет в театре Et Cetera Александра Калягина на Эфросовской сцене. Знаете, актеры с упоением играют, и музыканты прекрасные – Сергей Летов, Володя Нелинов, Сергей Shrek. Спектакль недолгий, идет чуть больше часа, и все время проходит как-то радостно.
— Подходит ли басенная форма для отражения современности?
– Еще как! Вся наша русская жизнь не меняется в своей типажности. Появляются какие-то нюансы времени, но архетипы остаются. Кстати, басни очень хорошо воспринимают солдаты на фронтах, с радостью их слушают. Даже басни про армию, которые здесь, в тылу могли бы вызвать вопросы. А сами ребята говорят: «Отлично! Здорово!» Потому что они внутри событий, они заняты делом, и при этом им хочется посмеяться над собой. Да, мы живем в очень тревожное время, библейское время, когда важно мобилизоваться. Но вспомните, как русские люди всегда выходили из положения в тревожные времена. Они шутили, а на фронтах выступал Райкин, и Карандаш в цирке. Да, не надо смеяться над врагами и принижать их, но высмеивать явления, которые мешают победить врага, прежде всего в самом себе, полезно.
– Не так давно в Ленкоме появился спектакль «Маяковский» Алексея Франдетти, где звучат стихи Басты. Могут ли такие опыты стать предпосылкой к тому, что поэзия вновь, как в 60-х, когда гремели Евтушенко и Ахмадулина, будет собирать многотысячные залы?
— Это уже началось. Люди сейчас очень хотят прикоснуться слухом к каким-то ярким смысловым точкам, которые и заложены в поэзии. Она быстро и точно обобщает явления жизни, которые затрагивают всех нас, и заворачивает их в привлекательную обертку. Люди, особенно молодые, к этому тянутся. Другое дело, что такое искусство должно быть не представлением о поэзии, а настоящей поэзией, которая соответствует эпохе, как в свое время стихи Маяковского. Развитию такой поэзии способствует уже как институция тот же «Филатов Фест». Он прекрасен тем, что вырос не по команде сверху, не по отмашке свыше — мы пришли «снизу», росли, добивались определенных целей и в результате стали заниматься государственно образующими художественными вещами. Не по административному зову, а по зову сердца. Вот это очень важно.
Автор Наталья МАЛАХОВА