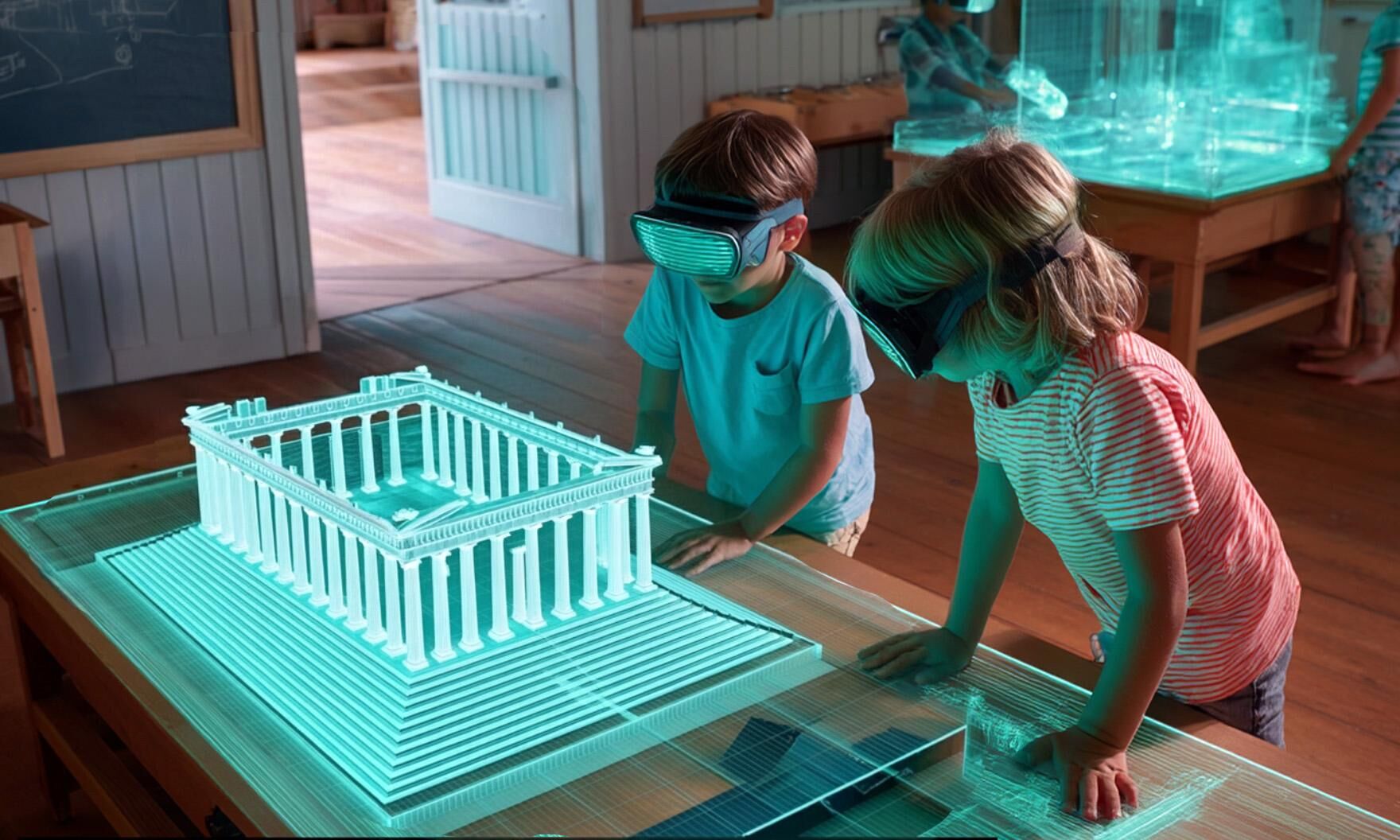В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка «Читателя найду в потомстве я», приуроченная к 225-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Евгения Баратынского. Партнёром проекта выступил музей-заповедник «Усадьба “Мураново”».
В конце марта на Тамбовщине стартовал юбилейный год Евгения Абрамовича Баратынского. Вскоре после рождения будущего поэта привезли в усадьбу Мара, что в ста с лишним верстах от Тамбова. Имение это было пожаловано императором Павлом I генерал-лейтенанту Абраму Андреевичу Баратынскому, представителю старинного дворянского рода, отличившегося на русской службе ещё в XVII веке. Предки Баратынских владели замком Боратынь в Галиции, входившей тогда в состав древнерусских Перемышльских земель. (Собственно, именно поэтому в музее-заповеднике «Усадьба “Мураново”» до сих пор предпочитают писать фамилию поэта через «о» — Боратынский.) Сейчас на месте Мары лишь остатки фундаментов некогда прекрасного усадебного дома и бледная тень некогда роскошного парка. Большая часть сокровищ семейного гнезда Баратынских после революции оказалась в Тамбовском областном краеведческом музее, одной из трёх главных точек притяжения для поклонников творчества поэта.
Отмечают юбилей Баратынского и в Казани, где не так давно открылся после реставрации посвящённый ему музей, занимающий особняк, в котором после кончины Евгения Абрамовича жили его дети. В Мураново, где до сих пор среди рощ и полей возвышается дом, построенный им по собственному проекту для своего многочисленного семейства, торжества достигнут кульминации в мае, во время традиционного литературно-поэтического фестиваля «Про речь».
Не остался в стороне от торжеств и Государственный музей А.С. Пушкина в Москве, посвятивший юбиляру выставку «Читателя найду в потомстве я». Двух поэтов связывали искренние дружеские чувства. Александр Сергеевич высоко ценил талант собрата по перу: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко». И Евгений Абрамович воздавал другу должное: «Чудесный наш язык ко всему способен. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя (Борис Годунов”. — В.П.) исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».
Евгений Абрамович тяжело переживал гибель Пушкина, отозвавшись на его смерть стихотворением «Осень».
5 февраля 1837 года Баратынский писал Вяземскому: «Пишу вам под громовым впечатлением, произведённым во мне, и не во мне одном, ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ и семьянин, скорблю и негодую; мы лишились таланта первостепенного… который совершил бы непредвиденное… Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясён глубоко и со слезами, ропотом, недоумением, беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе?..»
«Баратынский — одна из значимых фигур в судьбе Александра Сергеевича, — считает директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв. — Мы постарались отразить в экспозиции нелёгкий, но ясный и вдохновляющий жизненный путь поэта. На выставке помимо обширных материалов, ему посвящённых, представлены два автографа Евгения Абрамовича из нашего собрания и несколько мемориальных предметов, которые вошли в обновлённую экспозицию музея-квартиры Пушкина на Арбате. Например, пресс-папье из слоновой кости “Умирающий лев”, купленное поэтом во время путешествия по Италии. Мы не случайно разместили мемории Баратынского в арбатской квартире Пушкина. Он был одним из самых желанных гостей на мальчишнике, устроенном здесь поэтом, а затем и на свадьбе Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Баратынский прожил недолгую, всего 44 года, но, по большому счёту, очень счастливую жизнь. Он был счастлив и в творчестве, и в дружбе, и в браке, что с поэтами случается нечасто. Думаю, что его судьба могла бы стать сюжетом увлекательной биографической картины. Нашёлся бы только режиссёр, способный понять этот глубокий ум и почувствовать движения чуткой, ранимой этой души».
Право рождения сулило Евгению блестящую будущность. Между тем юность его была омрачена событием, навсегда изменившим ещё недавно плавное течение жизни. Его зачислили в одно из привилегированных учебных заведений — Пажеский Его Императорского Величества корпус. Поначалу Баратынский учился достаточно прилежно, но постепенно строгие армейские порядки начали его тяготить и успеваемость заскользила вниз. Протест против жёсткой дисциплины понятен. Но, на свою беду, Евгений примкнул к «тайному обществу», составленному начитавшимися Шиллера сотоварищами с целью изводить своих наставников. И однажды молодые люди попались на краже. Наказание было скорым и суровым. По распоряжению императора они были исключены из Пажеского корпуса с лишением права когда бы то ни было поступать на государственную службу.
Евгению едва исполнилось 17 лет. Вернуться в родную Мару он не смел, почти год мыкался в надежде поступить в какое-нибудь учебное заведение, но все двери оставались перед ним закрыты. Наконец, он вернулся домой. Отца к тому времени давно уже не было в живых; мать, горячо его любившая, проливала горькие слёзы. Два года Евгений мучился угрызениями совести, пока не решил добровольно пойти на солдатскую службу. Это был единственный способ искупить вину, ибо давал возможность выслужить офицерский чин, снимавший с провинившегося клеймо изгоя. Баратынский поступил рядовым в лейб-гвардии Егерский полк, стоявший в Петербурге.
Как дворянин он имел некоторые послабления. В частности, ему было разрешено жить не в казарме. Один из офицеров познакомил его с Дельвигом. Они пришлись друг другу по душе и вдвоём сняли небольшую квартиру, посвятив этому событию стихотворение, начинавшееся словами:
Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Пушкина стихи привели в восторг, и новый знакомец был принят в тесный кружок дружеских муз.
Баратынский нёс службу добросовестно, понимая, что только так сможет получить заветную свободу. Он не раз приходил в отчаяние, думал об отставке, но это разом перечеркнуло бы все уже перенесённые страдания, вернув в положение отщепенца. «Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет, — признавался он с тоской Василию Жуковскому, — меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить её, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство».
В 1820 году Баратынскому всё-таки присвоили звание унтер-офицера, но перевели из гвардии в Нейшлотский пехотный полк, стоявший в Финляндии. Там он познакомился с адъютантом генерал-губернатора Николаем Путятой, дружба с которым сыграет немалую роль и в жизни самого Евгения Абрамовича, и в судьбе столь милого его сердцу Мураново. Суровое уединение, оторванность от мира усугубили романтический настрой молодого поэта. Он шлёт друзьям тонкую, завораживающую любовную лирику. Получая его послания, Пушкин, томящийся в южной ссылке, пишет из Кишинёва Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни, и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор, — ведь 23 года счастливцу! Оставим всё ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». Но поэт очень скоро изменил «поприщу», назначенному друзьями. Его муза, не чуждая нежных чувств, останется всё-таки служительницей высокой мысли, философии, стремящейся проникнуть под самые сумрачные своды человеческой души.
Наконец, суровому «заточению» пришёл конец. Ходатайства возымели действие. Зимой 1826 года Баратынский получил чин прапорщика. Военной карьеры он для себя не мыслил и, сославшись на проблемы со здоровьем, вышел в отставку. Поселился в Москве, где отставники — что штатские, что военные — чувствовали себя куда вольготней, чем в столице. Однако холостяцкая жизнь, любезная нраву многих поэтов, Баратынского отнюдь не прельщала. Он так долго жил в глухом внутреннем одиночестве, что просто не мог не желать обрести родственную душу. Она нашлась, и достаточно скоро. Его избранница Анастасия была старшей дочерью генерал-майора Льва Энгельгардта. Однако невеста у друзей Баратынского восторгов не вызывала. Вяземский сообщал Пушкину: «Ты знаешь, что твой Евгений захотел продолжиться и женится на соседке моей Энгельгардт, девушке любезной, умной и доброй, но не элегической по наружности». «Для поэзии он умер», — уверял Лёвушка Пушкин. «Я боюсь за его ум», — вторил ему старший брат.
Но Евгений знал, что сделал правильный выбор: «Я был как больной, который, желая навестить отдалённый прекрасный край, знает к нему дорогу, но не может встать с постели. Пришёл врач, вернул здоровье, он сел и поехал. Отдалённый край — это счастье, путь, философия, а доктор — моя Настенька». Она понимала мужа, живо откликалась на его поэзию, была интересной собеседницей и опорой во всех его начинаниях. Спустя несколько лет, когда Пушкин соберётся под венец с Натальей Николаевной и накануне свадьбы окажется в полном смятении духа, Баратынский поделится с другом: «В женихах счастлив только дурак, а человек мыслящий волнуем и мучим будущим».
Анастасия Львовна получила в приданое усадьбу Мураново. Евгений Абрамович влюбился в эти прелестные места с первого приезда. Имение стало для него той тихой гаванью, к которой он, поэт-философ, всегда стремился. Энгельгардты в Мураново жили только летом, господский дом, изрядно к тому времени обветшавший, и без того был невелик, а по мере рождения детей — всего их у Баратынских будет семеро — становился всё теснее. Он мечтал о настоящем семейном гнезде, где его близкие были бы счастливы.
В 1841 году старый дом был разобран, и Баратынский сам разработал проект нового. На время строительства семья перебралась к друзьям, чье имение было всего в трёх верстах от Мураново. Каждое утро Евгений Абрамович отправлялся наблюдать за строительством, возвращался к обеду и снова пропадал на «стройплощадке» до темноты. Чтобы не входить в лишние расходы, он сам рисовал эскизы мебели, которую потом изготавливали местные умельцы. Один из секретеров мурановского собрания представлен на выставке. Часть мебельной коллекции также можно увидеть на сайте цифровых двойников, созданном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив IPQuorum совместно с Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С.Г. Строганова и агентством комплексных коммуникационных решении Prophet.
Фото предоставлено пресс-службой музея
Директор музея-заповедника «Усадьба “Мураново”» Александр Богатырёв считает, что Баратынский сегодня незаслуженно забыт: «Конечно, речь не идёт о полном забвении, но отсутствие его произведений в школьной программе и широком информационном пространстве приводит к тому, что глубочайший поэт и мыслитель в восприятии многих людей оказывается где-то на периферии русской словесности. А ведь Пётр Вяземский, когда уже никого из упомянутых им поэтов не будет в живых, напишет:
Пушкин, Дельвиг, Баратынский —
Русской музы близнецы.
Мураново, Тамбов, Казань, пушкинские музеи стараются поддерживать интерес к Баратынскому. К примеру, у нас в планах совместное издание, которое должно самым подробным образом осветить тему дружбы Евгения Абрамовича с Пушкиным и поэтами его круга. Мы пытаемся найти поддержку планам восстановления усадьбы Мара, связанной в том числе и с жизнью Антона Дельвига. Баратынский по таланту и вкладу в русскую поэзию заслуживает много большего. Нам необходимо вернуть его из этого смутного полузабвения».
Жизнь философа и поэта оборвалась внезапно. Евгений Баратынский шёл в поэзии своим путём, не гонясь ни за славой, ни за вниманием публики, ни даже за признанием коллег по поэтическому цеху. Чуткое его сердце не выдержало трудностей этой дороги. Критика в штыки приняла его последний сборник — «Сумерки». Европа, о которой он так долго мечтал и наконец увидел, не оправдала ожиданий. За полгода до смерти в письме друзьям, отправленном накануне нового 1844 года, Евгений Абрамович написал: «Поздравляю вас с будущим, ибо его у нас больше, чем где-либо». Подозревал ли он, насколько окажется прав?..
Автор: Виктория Пешкова