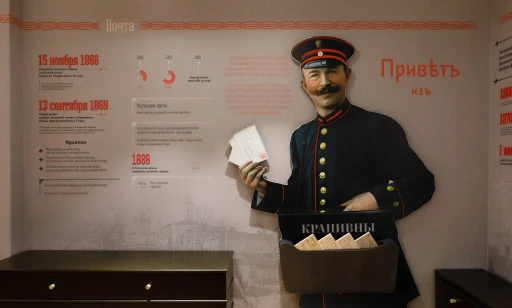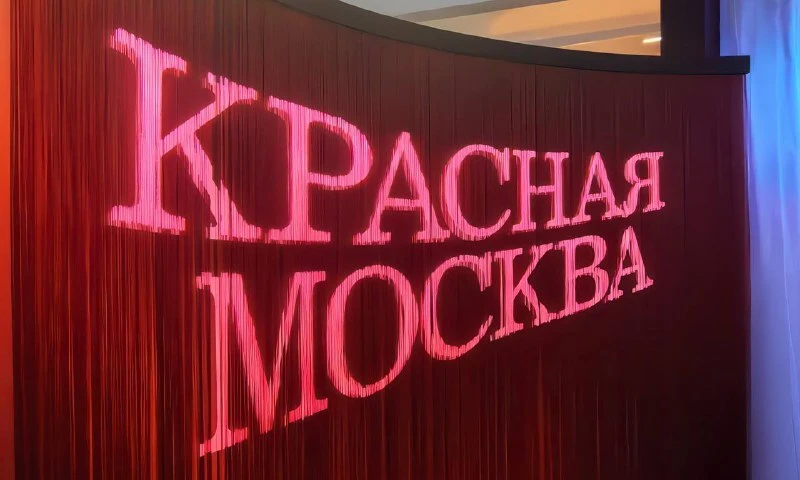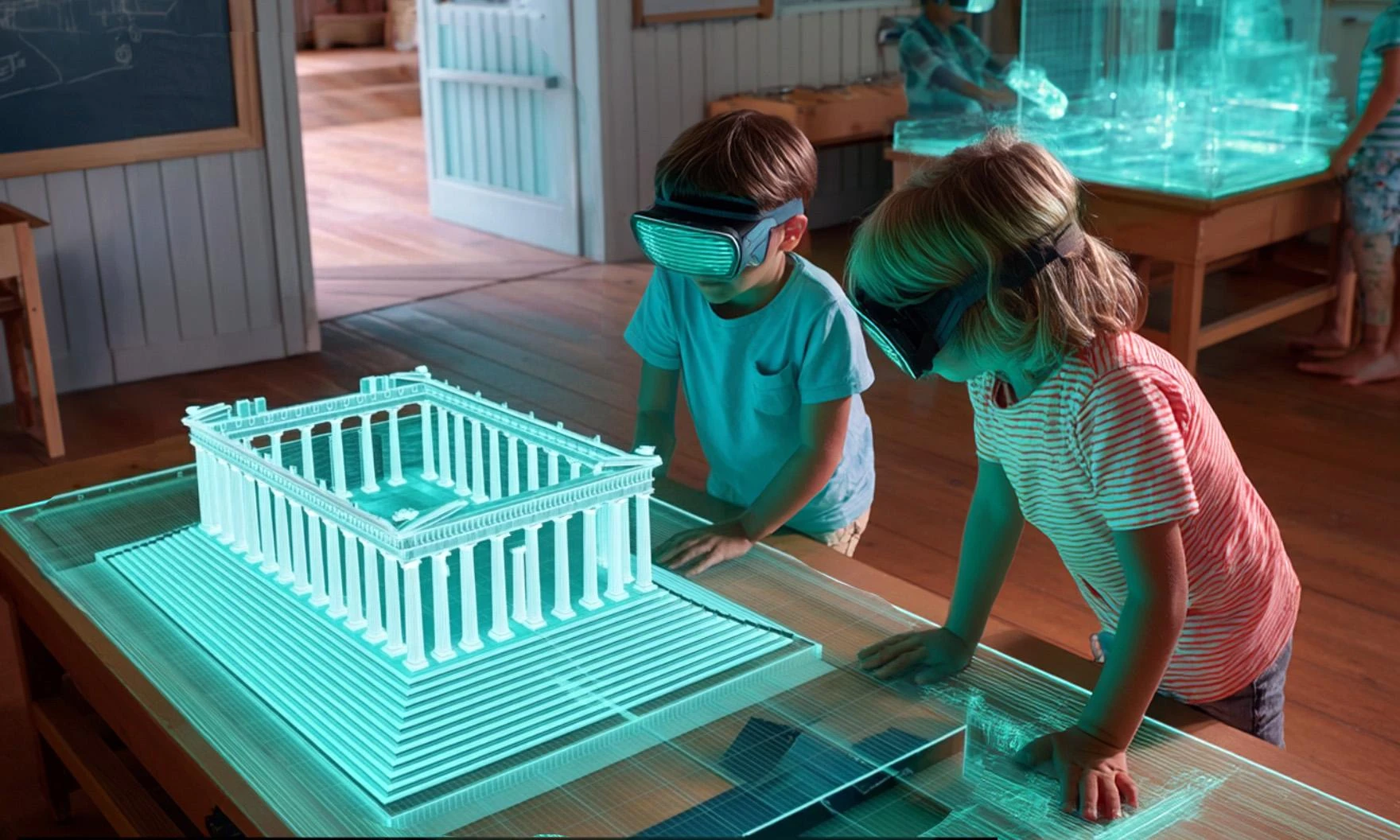Бесценные коллекции крупнейших музеев страны начали готовить к эвакуации уже в первые дни Великой Отечественной войны.
24 июня 1941 года при Совете народных комиссаров СССР был создан Совет по эвакуации. О том, что к войне готовились, свидетельствует тот факт, что планы эвакуации музейных ценностей были составлены ещё в 1936 году. К сожалению, в них были учтены далеко не все хранилища национального достояния, а общее количество музеев к 1941 году достигло 626. К тому же коррективы в связи с расширением фондов в первоначальные планы внесены не были. Приспосабливать то, что было на бумаге, к суровым реалиям пришлось буквально на ходу ценой воли, таланта и самоотверженности музейных работников. За перемещение собраний вглубь страны отвечал Всесоюзный комитет по делам искусств. Сложность, однако, состояла в том, что в Советском Союзе музеи, в зависимости от специализации, принадлежали разным ведомствам — Наркомату просвещения, Комитету по делам искусств, Академии наук; существовали музеи при научно-исследовательских институтах, вузах, промышленных предприятиях. С началом войны межведомственные согласования стали серьёзно тормозить работу сотрудников, которым приходилось в спешном порядке вносить коррективы в существовавшие планы и разнарядки.
Музеям необходимо было составить списки предметов, предназначенных для эвакуации, добыть ящики и упаковочные материалы, произвести упаковку коллекций, решить проблему с транспортом. И всё это в условиях регулярных налётов вражеской авиации, с риском для жизни.
«Военные страницы в истории каждого музея написаны людьми, совершившими гражданский подвиг, — считает заместитель заведующего отделом письменных источников Государственного исторического музея Наталья Демирова. — Летом 1941 года у нас работало около 250 человек. Многие отправились на фронт добровольцами. Кто не проходил по здоровью — ушли в народное ополчение. Из почти ста сотрудников, сражавшихся в рядах Красной армии, в родной музей не вернулось тридцать. В нашем собрании хранится “Альбом памяти”, который в годы войны собирала наш выдающийся историк-музеевед Анна Борисовна Закс. Она сохранила фотографии и документы, связанные с военными буднями ГИМа. На фронте было трудно, но и в тылу — не просто. С июля Москву постоянно бомбили. Часть сотрудников дежурили на крыше музея, спасая его от зажигательных бомб. Другие работали на огородах, которые выделили для нашего музея в Коломенском, снабжая коллег овощами, чтобы хоть как-то пополнить скудный пайковый рацион. При этом ГИМ, один из немногих в столице, продолжал работать. За всю войну только восемь дней в конце октября — начале ноября 1941 года он был закрыт для посетителей».
К началу войны собрание Исторического музея насчитывало порядка 2 млн единиц хранения. Самое ценное сразу начали переносить в наши обширные подвалы. Там же изготавливались ящики для эвакуации. Всего за месяц подготовили 1147 ящиков, куда было уложено 430 000 предметов. Занимались упаковкой исключительно хранители — только они знали, как это сделать, чтобы предметы не были повреждены при перевозке. Параллельно макетно-муляжная мастерская готовила высококачественные копии, чтобы заполнить возникающие в экспозиции пробелы.
27 июля из Южного порта буксир вывел две баржи, на которых находилось так называемое Музейно-библиотечное хранилище № 1, в котором кроме собрания ГИМа находились коллекции Музея революции, Биологического музея им. Тимирязева и часть фондов крупнейших библиотек — Ленинки, Исторической и Иностранной литературы. Точкой назначения был Хвалынск, небольшой город под Саратовом. Но через два месяца немецкая авиация начала бомбить Поволжье, и ящики с коллекциями сначала доставили водой до железнодорожной станции Увек, а оттуда — эшелоном в Кустанай (ныне город Костанай Республики Казахстан). Дорога была долгой, остановки — частыми, и на каждой хранителям предписывалось обойти весь состав, проверяя сохранность пломб и печатей.
В Кустанае коллекции были размещены в подвалах Госбанка. Ящики регулярно открывали, проверяя состояние предметов. При необходимости проветривали, сушили, чистили, переупаковывали и отправляли в Москву ежемесячные отчёты. Помимо этого, сотрудники занимались научной работой, читали лекции в Кустанайском государственном университете и даже организовали выставку, посвящённую героическому прошлому русского народа. Осенью 1944 года сокровища ГИМа вернулись в родные стены. Экспонаты начали занимать места в экспозиционных залах, копии заменялись подлинниками.
Появлялись и новые экспонаты, спасённые от уничтожения или вывоза в Германию. К примеру, на территории Таманского полуострова ещё в 1916 году был обнаружен пятитонный мраморный саркофаг, великолепный памятник античной скульптуры. Фашисты, планируя его вывезти, перевезли его в Керчь и спрятали в бомбоубежище для офицерского состава, оборудованном в Мелек-Чесменском кургане. В мае 1944 года при отступлении саркофаг был взорван, крышка была разбита на 1600 осколков. Памятник был на грани гибели. ГИМ направил в Керчь сотрудницу отдела археологии Наталью Валентиновну Пятышеву, которой удалось собрать все фрагменты и договориться о транспортировке памятника в Москву. В результате саркофаг был отреставрирован и сейчас украшает собой экспозицию Боспорского зала.
За время войны появилась в Историческом музее и новая экспозиция. Сотрудники продолжили традицию, заложенную ещё во времена Первой мировой войны, когда фонды музея комплектовались предметами — свидетелями современной истории. В конце октября 1941 года была открыта выставка «Оборона Москвы». Когда врага отбросили от столицы, экспозиция расширилась и получила новое название — «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Всего за годы войны было собрано порядка 12 000 музейных предметов. Они сразу включались в экспозиционную работу. В одной из витрин были представлены личные вещи Героя Советского Союза лётчика Александра Михайловича Лукьянова, погибшего при совершении воздушного тарана под Ленинградом. Долгое время к этой витрине приходила его мать и рассказывала посетителям о сыне. В скором времени многие начали приносить в музей военные реликвии, создавая своего рода «народную коллекцию» меморий Великой Отечественной войны.
Всем известна трагическая история загородных императорских резиденций в окрестностях Ленинграда — Петергофа, Царского Села (сейчас — Пушкин), Павловска, Гатчины. Планом эвакуации предусматривалось вывезти только самое ценное, то есть примерно четверть от общего объема фондов. И более 40 000 предметов действительно успели спасти. Но для разных дворцов нормативы очень разнились. К примеру, из Александровского дворца в Царском Селе планировалось вывезти лишь 12 предметов из почти 75 000. Директору музея Анатолию Михайловичу Кучумову удалось спасти восемьсот, включая мебель, люстры и прекрасную коллекцию фарфора. Послевоенное восстановление дворцов и экспозиций растянулось на десятилетия и не везде ещё доведено до конца.
Но главному ленинградскому музею — Эрмитажу повезло. В 1938 году по распоряжению его директора, известного востоковеда Иосифа Абгаровича Орбели, началось изготовление ящиков по соответствующим размерам и упаковочного материала. Эрмитажным мастерам понадобилось чуть более года, чтобы всё необходимое для эвакуации бесценных шедевров было готово.
Выступление Молотова с сообщением о нападении фашистской Германии на СССР прозвучало 22 июня в 12 часов 15 минут. По воспоминаниям сотрудников Эрмитажа, к упаковке экспонатов, отправлявшихся первым эшелоном, приступили уже в час дня. За неделю была собрано всё самое ценное — экспонаты из экспозиционных залов. Полмиллиона экспонатов разместили в 1133 ящика. Музейщикам помогали ленинградские художники, студенты института живописи, ваяния и архитектуры (нынешней Академии им. Репина), курсанты военно- инженерного училища и Учебного отряда подводного плавания. 1 июля первый эшелон отправился в Свердловск. 20 июля ушёл второй — ещё 1422 ящика. Кроме эрмитажных коллекций этим составом был отправлен рукописный фонд Пушкинского дома, экспонаты Академии материальной культуры, Государственного музея этнографии и часть библиотеки Пулковской обсерватории.
В Свердловске ящики с музейными предметами и книгами разместили в здании картинной галереи, на втором этаже Музея революции — печально известного дома инженера Ипатьева (на первом к тому времени располагалось собрание Оружейной палаты) и в здании бывшего польского костёла, откуда пришлось выселять жильцов. В 1943 году Эрмитажу передали более пригодное здание клуба имени Горького. Всё хранилось в ящиках. В отсутствие нормальных условия для экспонирования выставки не проводились, за исключением одной, получившей название «Военная доблесть русского народа», которую в 1943 году показали в Свердловске, Новосибирске и ещё нескольких городах Урала. На ней были представлены некоторые портреты Военной галереи 1812 года.
«Третий эшелон отправить не успели, — рассказывает заместитель заведующего отделом “Научный архив рукописей и документального фонда” Государственного Эрмитажа Елена Соломаха, — замкнулось кольцо блокады. Всё, что можно, было перенесено в подвалы под зданиями музея. Там же устроили бомбоубежище для сотрудников с семьями и членов творческих союзов. В них спасалось от бомбёжек более 2000 человек. Наиболее хрупкие экспонаты — стекло, фарфор, люстры — спрятали в кучах песка, который сотрудники вёдрами наносили в подвалы. Оставшуюся мебель, скульптуры, вазы — на первый этаж и в конюшни под Висячим садом. Всего было перемещено около 120 000 предметов. К 31 марта 1942 года Эрмитаж был законсервирован: закрыты и опломбированы кладовые, обшиты и заложены мешками с песком статуи, отключены все системы тепло- и энергоснабжения. В музее оставалось всего 15 хранителей и около 80 человек охраны. Все заботы о бесценном наследии легли на плечи этих измученных голодом и болезнями, но не сломленных людей».
Весной 1944 года, вскоре после снятия блокады, часть сотрудников вернулась в Ленинград и приступила к подготовке выставки произведений, остававшихся в Эрмитаже. Своими силами ремонтировали залы, расставляли витрины, реставрировали экспонаты. Экспозицию открыли в ноябре в здании Нового Эрмитажа, представив 1338 экспонатов из всех отделов музея. Она действовала до тех пор, пока предметы из эвакуированного собрания не заняли свои места. Восстановление постоянной экспозиции по традиции начали с зала Рембрандта (эрмитажное собрание работ художника — самое крупное за пределами Нидерландов). Всего к открытию музея 8 ноября 1945 года восстановили 69 залов, довоенную расстановку экспонатов и развеску полотен сохранили, чтобы посетители увидели их на привычных местах.
Восстановить всё, как было до войны, для сотрудников многих музеев, здания которых лежали в руинах, осталось только мечтой. Севастополь оказался в зоне боевых действий в первые же часы войны. Противник сбрасывал на акваторию Севастопольского залива электромагнитные и акустические мины, чтобы заблокировать выход кораблей из бухты. Херсонесский музей пострадал уже на третий день войны — 25 июня электромагнитная мина весом в полтонны упала прямо во дворе. Собрание, состоявшее из двух коллекций, античной и византийской, насчитывало около 3000 единиц хранения. Сотрудники начали переносить экспонаты в подвалы, чтобы хоть как-то защитить их от осколков. Поначалу предполагалось, что экспонаты удастся спрятать на территории Крыма, в старых каменоломнях. Но враг рвался к Севастополю и было решено эвакуировать фонды в Свердловск.
Как и во многих музеях, штат сотрудников резко сократился буквально в первый же месяц — все, кто мог держать в руках лопату, отправились на строительство оборонительных сооружений вокруг Севастополя. Тогдашний директор Херсонесского музея Иван Данилович Максименко в Гражданскую войну был комиссаром бригады, а потому уже в июле он был призван на политработу в штаб армии. Формально он уже не имел никакого отношения к музею, но оставить его на произвол судьбы, конечно же, не мог. В ноябре 1941 года музей был закрыт, но несколько научных сотрудников продолжали ездить с лекциями об истории Крымского полуострова по воинским частям и госпиталям — бойцы должны были знать, за что они сражаются.
Максименко взял на себя организацию эвакуации музейных фондов. Всё вывезти было невозможно. Поначалу разрешение было получено только на три тонны — для археологической коллекции, где значительная часть предметов обладала немалым весом, это было катастрофически мало. Усилиями Максименко предел был увеличен до пяти, а в результате стараниями сотрудников упаковано восемь тонн — 108 ящиков. Половину занимали экспонаты, остальное — архив и библиотека. Часть оставшихся экспонатов — эпиграфические памятники и крупные архитектурные фрагменты — спрятали в двух античных цистернах, вырубленных в толще скал и способных выдержать бомбардировку. Мозаичные полы средневековых храмов вручную засыпали толстым слоем земли. Трое сотрудников музея — Николай Зиновьевич Фёдоров, Александр Кузьмич Тахтай и его жена Нина Васильевна — добровольно остались в оккупации, чтобы, насколько возможно, обеспечивать сохранность археологических памятников на территории музея.
Ответственным за эвакуацию назначили Станислава Францевича Стржелецкого, выдающегося крымского историка и археолога. «То, что он совершил, иначе как подвигом не назовёшь, — уверен старший научный сотрудник отдела “Хора Херсонеса” Валентин Дорошко. — Станислав Францевич в одиночку справился с труднейшей задачей доставки нашей коллекции в тыл. 18 сентября 1941 года ящики были погружены на теплоход “Волга”, которое должно было идти в Новороссийск. Оттуда предстояло доставить груз по железной дороге в Свердловск. В дороге маршрут был изменён — Новороссийск начала интенсивно бомбить немецкая авиация. “Волгу” направили в Поти. Там из-за неразберихи на железной дороге вагон с херсонесскими коллекциями был отправлен в Тбилиси, оттуда можно было добраться только до Баку. Предполагалось, что оттуда через Тихорецкую груз отправится в Сталинград. Но этот путь уже был практически отрезан — 20 ноября противник захватил Ростов. Из Баку через Каспий Стржелецкий прибыл в Красноводск (ныне — Туркменбаши, Казахстан), а оттуда через Ашхабад и Ташкент — в Свердловск. Стояла середина декабря, 40-градусный мороз. Путь, на который изначально отводилось две недели, занял сто восемь дней. Станислав Францевич, пережив и холод, и голод, всё доставил в целости и сохранности».
Ящики с предметами из Херсонеса разместили в Музее революции, где уже находились коллекции Оружейной палаты и Эрмитажа. Экспонаты не вскрывали, а вот библиотека была распакована и предоставлена для использования учёным и преподавателям университета и педагогического института, а также работникам краеведческого музея. Станислав Стржелецкий за 22 месяца, проведённых в эвакуации, не только читал лекции для специалистов и широкой публики, но и успел написать диссертацию об эллинистических домах Херсонеса. Когда враг захватил Севастополь, на территории музея разместили штаб одной из частей и ремонтные мастерские, а в развалинах Свято-Владимирского собора устроили склад боеприпасов. То, что не успели спрятать, было разграблено фашистами.
В мае 1944 года Севастополь был освобождён, а в декабре из эвакуации вернулась музейная коллекция. 23 февраля 1945 года в одном из наименее пострадавших зданий была открыта первая экспозиция. Расчистку территории музея завершили только через два года, а на восстановление всех необходимых сооружений потребовалось ещё несколько лет. Херсонес открывал новую страницу своей истории.
Великая Отечественная война не имеет равных по масштабу утраты произведений искусства, памятников культуры и архитектуры. Их уничтожение не имело военно-стратегического значения. Это была продуманная политическая акция вождей Третьего рейха, нацеленная на истребление исторической памяти народов, населявших захваченные нацистами территории. Героическим усилиям музейных работников мы обязаны сохранением важнейшей части нашего культурно-исторического наследия. Как только враг был изгнан с нашей земли, в трёхстах городах началась работа по восстановлению музеев, библиотек, учреждений культуры, без чего невозможно было вернуть эвакуированные собрания под родные своды. Их возвращали к жизни и те, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, и те, кто в тылу спасал и сохранял сокровища нашей культуры, чтобы передать их потомкам.
Автор: Виктория ПЕШКОВА