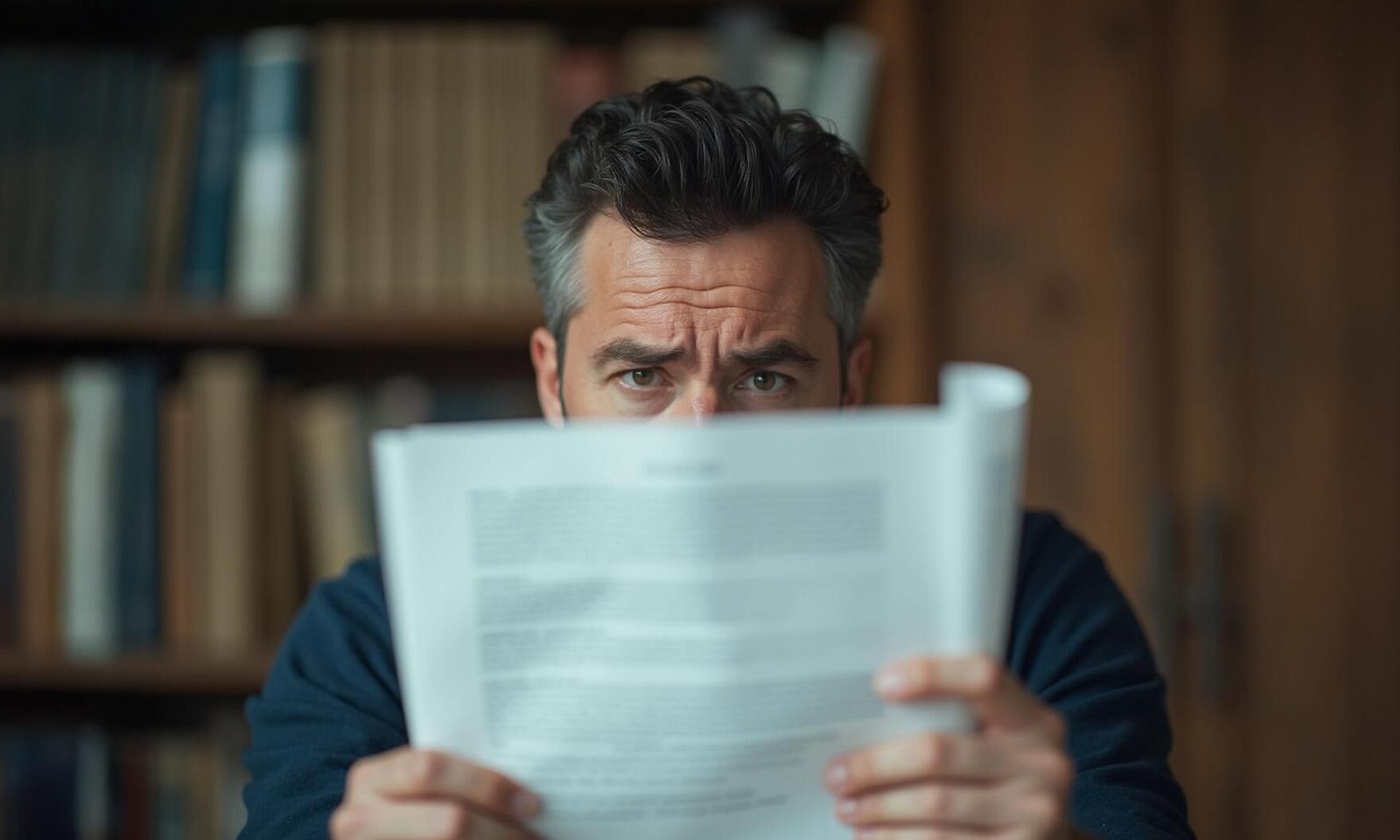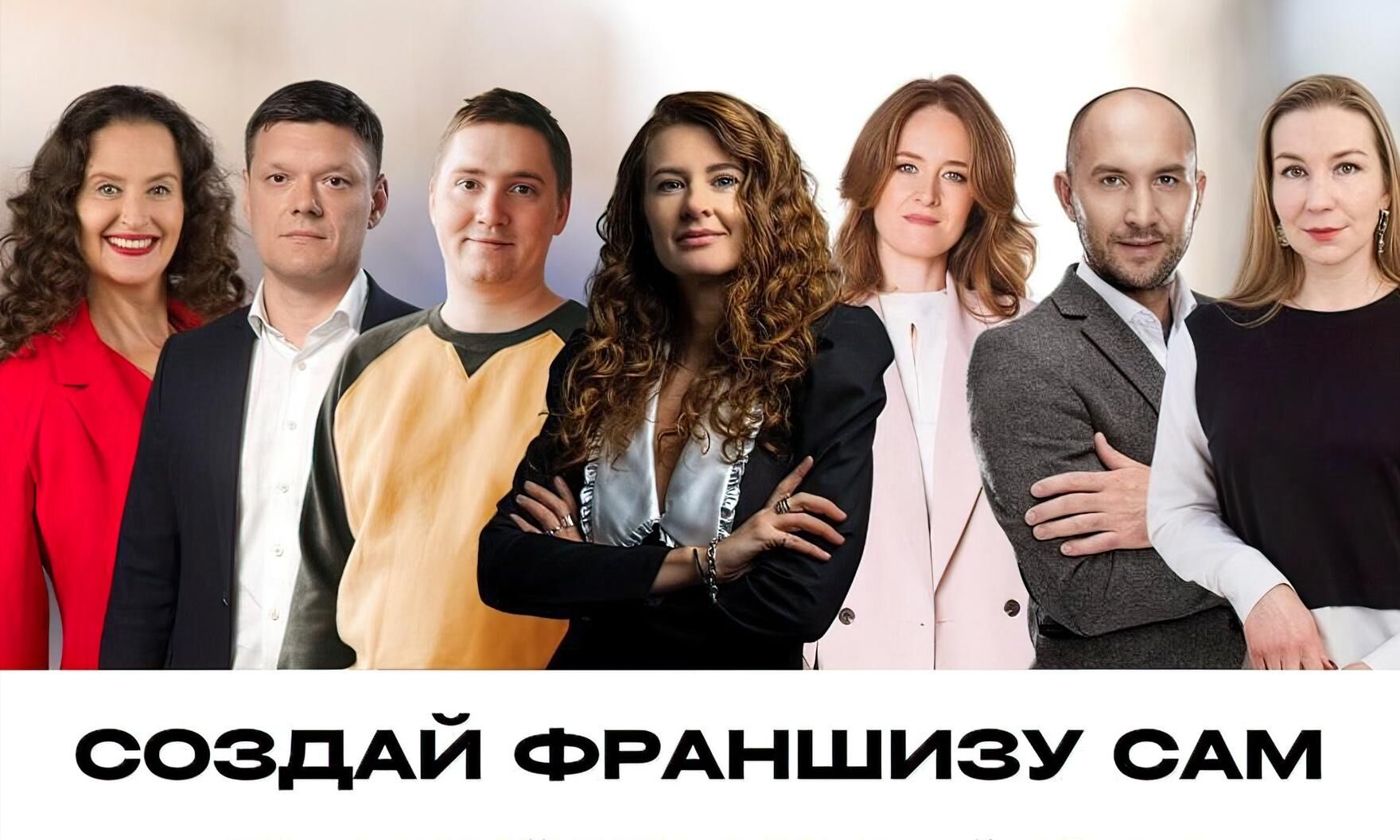10 октября театр «Современник» открыл новый сезон спектаклем Гульназ Балпеисовой «Случайные встречи». «Хроники любви» по произведениям Ивана Бунина появились в репертуаре благодаря режиссерской лаборатории «Хочу как О.Н.», в названии которой зашифрованы инициалы одного из основателей театра гениального Олега Николаевича Ефремова. На сборе труппы также было объявлено, что в марте Гульназ Балпеисова представит на Основной сцене спектакль «Здесь живут люди» по одноименной пьесе южноафриканского писателя Атола Фугарда. IPQuorum пообщался с Гульназ о работе, любви и работе по любви.
— Если я правильно посчитала, то «Случайные встречи» с подзаголовком «Хроники любви» стали для вас 13-й постановкой в качестве режиссера. Не было предубеждений перед этим магическим числом?
— Никаких. Скорее мне это нравится. Мне кажется, что нам, наоборот, пора полюбить числа, которые несправедливо обидели, — 13, 666, 40 и так далее. Пора уже разрушать все эти дурацкие суеверия. Плюс в отрицательном есть свой кайф. Суть в том, что только через несчастье постигается человек, а потому, возможно, неудача — это на самом деле самая большая удача.
— Спектакль «В Париже» по рассказам Ивана Бунина стал в свое время вашим дебютом на Новой сцене Вахтанговского театра. Сейчас вы вновь обратились к этому автору и к этой новелле. Что вас так притягивает в Бунине?
— У нас с Буниным такой долгий роман, что я чувствую перед ним некоторый внутренний долг. На первом курсе я делала его рассказ «Татьяна». «В Париже» стал моим дипломным спектаклем, который затем вошел в репертуар театра Вахтангова. И, кстати, уже тогда мой мастер Римас Владимирович Туминас говорил, что мне прямая дорога в «Современник». Так что «Случайные встречи» очень логичное продолжение этого романа. Перечитывая Бунина снова и снова, я чувствую, как он бьется внутри меня, а потому мне хочется к нему возвращаться. И я не думаю, что это мое последнее к нему обращение. Мне нравится то, как он показывает моменты счастья: вот ты стоишь абсолютно счастливый, и в то же самое мгновение уже оплакиваешь, хоронишь эту радость, потому что знаешь, что она пройдет. Мы так устроены, что запрещаем себе быть счастливыми. Вот в чем парадокс. И вот он как раз об этом — забранный вздох, упущенное мгновение, потерянная возможность. Но по факту он описывает мечту. Кто после расставания не хотел сдохнуть, чтобы на следующий день возродиться другим человеком. Поэтому я ко всем его смертям — убили, задушили, застрелили — отношусь не как к фактической гибели, а как к метафоре. Это смерть тебя старого для чего-то нового.
Фото Александра Иванишина
— В своих интервью вы не раз говорили, что любить страшно. Почему?
— Потому что сердце — самое уязвимое, что есть у человека. Первый признак жизни — это сердцебиение. Неслучайно беременность определяется по сердцебиению. Именно оно показывает, что там кто-то есть. Нет ни рук, ни ног, ничего. Только этот перестук. Третья неделя беременности, а сердце уже бьется. Получается, оно было раньше тебя. И потому оно самое нежное, а начинает каменеть от разочарований. Взрослому человеку все труднее полюбить. А сердце дано, чтобы любить. Мы все жаждем любви, но при этом страшно боимся этого. Каждый раз встает вопрос: «Вот я сейчас полюблю, а как потом переживу расставание, если я в прошлый раз чуть не умер?» И тогда человек думает: а, может, лучше и не любить вовсе, просто повстречаться, пожить вместе, покувыркаться и спокойно разбежаться без всяких последствий? И вот мы обесцениваем чувства, обесцениваем любовь — до тала, до хруста. А почему? Потому что боимся. Наш век — век обесценивания. Хотя, наверное, страх существовал всегда. Легче быть Яго, чем прожить так, как Отелло. Но циник — это всегда самый большой трус любви.
— Говорить о любви проще, чем позволить себе влюбиться?
— Что сильнее любви? Только ее жажда.
— Мир Бунина предельно мужской, с современных позиций даже немного сексистский. У него женщины скорее приложение к мужчине, его отражение. Насколько вам было бы комфортно быть просто отражением?
— Это может считываться таким образом. Но мне кажется, что Бунин-то как раз так сильно любил, что устроил себе персональный ад. Это только кажется, что жить одновременно с женой и любовницей — мечта. А ты хоть одну сначала выдержи. И я думаю, что он 350 раз перекрестился, когда все закончилось.
Если говорить о равноправии, о равноценности, то это не совсем верно применимо к отношениям. Мы сами себе назначаем цену. А потому во всех отношениях все индивидуально. Тут нельзя обобщать.
Могла бы я стать приложением? Сложно сказать. У меня есть свой мир, своя самоценность. Мне даже интересно, какой мощи должен быть человек, чтобы я подняла руки и сказала: «Прикладывай».
— Но сегодня скорее время сильных женщин.
— Сильные женщины, как и сильные мужчины, были всегда. Это циклично, как прилив и отлив. Всегда есть волновое обновление. Мы сейчас скажем, что пришло время сильных женщин. А новая волна — и придет время сильных мужчин.
— Предыдущая ваша постановка «Нянины сказки» состоялась в театре под руководством Елены Антоновны Камбуровой. Теперь сцена «Современника», где долгие годы художественным руководителем была легендарная Галина Борисовна Волчек. Есть разница, когда худрук женщина?
— Да. В таких театрах нет зашоренности, нет предубеждений. У мужчин-артистов не возникает вопросов, почему я — босс. Но в целом мне кажется, что режиссура — это и не женский мир, и не мужской. В какой-то степени режиссер — это человек без пола. Это скорее некое существо, он ангел, бес. Опять же, есть ли пол у художника? Например, Фрида. Чего в ней больше — мужского или женского? Или Дали? Художнику мужчине обязаны быть присущи женские черты, и наоборот. Это всегда стык. Иначе красоты не создать. И я сейчас говорю не об ориентации, а о понимании мира во всей его полноте. По идее, мужчина — это порядок, опора, а женщина — хаос. Но в основном все режиссеры — истеричные холерики. Можно ли считать истеричность мужской чертой? Нет. Женщина же в режиссуре становится более жесткой. По крайней мере, у меня произошло так. У меня мечта создать спектакль в мягкости, но понимаю, что это невозможно. Только чуть отпустишь контроль, и все рассыпается. У нас воспитание, школа так выстроены, что все достижения только через кнут. Пока, условно, сапог в голову не полетит, никто работать не начнет.
— Вы всегда хотели в «Современник». Почему?
— Из-за Галины Борисовны Волчек. Очень жалею, что нам не удалось вместе поработать, что наша встреча не случилась. Плюс «Современник» — это стык быта и поэзии. Сегодня нигде так подробно не работают с текстом, с автором, с партнером, с существованием на сцене. Например, Сергей Юшкевич в «Случайных встречах» может передать эмоцию одним движением, одним взглядом.
Фото Александра Иванишина
— Сыграл ли какую-то роль тот факт, что первый московский спектакль вашего мастера Римаса Туминаса «Горе от ума» был именно здесь?
— Не знаю, может быть. Но самое смешное, что когда меня утвердили для участия в лаборатории, то я попала в ту же квартиру, где когда-то жили Римас Туминас, Адомас Яцовскис и Фаустас Латенас.
— Много раз слышала, что вы сравниваете Римаса Туминаса с Микеланджело, Леонардо. Он — человек эпохи Возрождения?
— Да, конечно. Возрождение — это путь к совершенству, то есть путь к Богу. И процесс совершенствования приближает тебя на шаг ближе к нему, но это путь длиною в жизнь, бесконечность. Вровень ты с ним не встанешь. Но можешь чуть приблизиться.
— При этом, судя по вашим воспоминаниям, учиться у него было непросто. После того как он посмотрел ваш отрывок Куприна, он подозвал вас к себе и сказал: «Балпеисова Гульназ, сюда сядьте». Дальше вы рассказываете: «Я, зарёванная, села. Он: “Говорите: «Я бездарность»”. Я повторяю. Он: “Я вас не слышу”. Я снова: “Я бездарность”. Он: “Я вас не слышу. Я вам не верю”. В общем, так продолжалось до тех пор, пока я не заорала это на весь театр, так, что стены содрогнулись. И когда это уже был вопль, он сказал: “Наконец, теперь я вам верю. Теперь из вас может что-то получиться. А вообще очень хороший отрывок, и она очень хороший режиссер, вы ей верьте”». Как вы это выдержали? Как сказали себе это «Allez иду продолжать»?
— Я каждый год уходила. Думала, что не вернусь, но затем приходила обратно. И каждый раз после очередного разноса он меня встречал такой фразой: «Не умерли?», а я отвечала: «Не дождетесь». Вот такая битва была каждый год.
— Можно учить иначе?
— Да. Но мы все ученики своих учителей. У Римаса был непростой учитель. И с ним было нелегко. Такое не всякому подойдет, но в моем случае работало. Я всегда понимала, что если он в меня верит, то я не имею права на ошибку. Кому-то можно опоздать, забыть, не сделать, а мне — нет. Если ты говоришь, что ты чемпион, будь им. За любой промах наотмашь получишь, чтобы на всю жизнь понял, что именно тебе так нельзя. Он учитель. Надо понимать иерархию. Ты же пришел учиться у этого человека. После 18 уже не обижаются ни на учителей, ни на родителей. Ты уже не ребенок, учись доносить мысль, вести диалог. Римас дал мне в руки профессию. И я могу у него бесконечно учиться. И я этому очень рада, потому что я выбрала своего учителя, я его искала. Это такой немножечко самурайский вариант.
Надо понимать: если ты получаешь «звездюлей» как урок — это ласка. Это лучшее, что тебе могли подарить. Сейчас даже очень хороший удар кувалдой меня не заденет и пройдет мимо.
— Откуда у вас такая сила? Страшно же, когда нет права ошибиться?
— Страшно, но я точно знаю, что обнуление — это и есть начало. Для того чтобы пойти дальше, нужно смести всё, что тебе не нужно. Начать с нуля. Режиссура — это умение каждый раз начинать сначала. Думаешь, что, если ты поставил 12 спектаклей, тебе легче будет? Ничего подобного. Ты как ребенок, голый и слепой. Путь начинается заново. Я помню Римаса, когда он выпускал «Пристань», «Евгения Онегина» и «Войну и мир». Он все время говорил: «Что ж такое, опять все заново». Честный художник всегда начинает заново. И не важно, пишет ли он картину, сочиняет роман, ставит спектакль, снимает фильм. Как будто бы в прошлом ничего не было.
Фото Яны Савиной
— Получается, режиссура — это не ремесло. Тогда что?
— Это истина, это честность. Да, у любого большого художника есть ремесленническая часть, но это только часть. Да, ты должен уметь придумать фокус, чтобы удивить зрителя. Но чтобы фокус стал откровением, нужно найти тот самый момент. Например, иногда непонятно, Бог нас поддерживает или смеется над нами. Идешь, рыдаешь, у тебя разрывается сердце, и вдруг — дождь. И тут можно отреагировать по-разному: от «какая банальная режиссура», «сколько раз такое в кино видел» до «спасибо, что приукрыл мои слезы». Собственно, в режиссуре так же.
— Вы как-то сказали, что «спектакль — это большое сражение». Кого и с кем?
— Сначала это сражение с материалом, с автором. Но это не битва насмерть, а любовный поединок. Это не два борца на ринге, а двое любовников. Ты с автором проводишь все время, ты с ним спишь, споришь, рвешь, ласкаешься, а потом вы становитесь союзниками. И потом ты идешь дальше. Несешь все свои идеи к артистам, к постановочной группе. И начинается новая битва титанов.
— А что тогда победа?
— Мир. Перемирие наступает всегда. Успех объединяет.
— Интересно, получается, что для вас любые отношения, будь то любовь или работа, — война двух миров?
— Да, в начале, конечно. Только так может родиться что-то стоящее.
— Тогда как вы видите финал счастливых любовных отношений?
— Это смерть. Потому что после встречи друг с другом вы станете другими. Это же перерождение. Мы должны умереть, чтобы потом выйти обновленными, чистыми, другими — лучше, хуже, противнее, злее, жестче, мягче. Каждый из нас взрослый человек, и по сути это результат. Просто результат 33 лет, 34, 35. И если остановиться, то это бессмысленно. И порой встреча с одним человеком и одна пережитая любовь дает тебе такой результат, будто бы ты прожил 130 лет.
— То есть получается, что случайных встреч все-таки не бывает?
— Они условно случайные.
Фото Александра Иванишина
— Меня удивил тот факт, что когда в Казахстане вы пришли в русскоязычную школу, то не говорили и не понимали русский язык. Как вам в итоге удалось прийти к такому уровню владения языком?
— Это практически чудо. У меня была сильная обида: я не понимала, за что меня наказали и отдали в русскую школу. Я весь первый класс была как будто глухая. Пока однажды не услышала: ты дура. И не услышала, а поняла. И в какой-то момент, когда я начала понимать язык, то ощутила, что голодна как никогда, и начала читать все подряд. Чувственно же язык мне открылся вместе с великими историями. Например, в шестом классе прочитала «Войну и мир». И потом ходила, пыталась объяснить всему учительскому составу, что нам неправильно преподают русскую литературу, потому что «Войну и мир» мы должны читать именно в шестом классе, когда мы с Наташей ровесники, когда у нас одинаковые интересы, схожие проблемы, когда мы с мальчишками еще в войнушку играем. А в одиннадцатом классе мы хотим читать другое, нам нужны Камю, Сартр, потому что в это время ты находишься в экзистенциальном кризисе, мир тебя не понимает, а вокруг стена и тошнота.
— Когда вы работали с Римасом Туминасом над «Войной и миром», вам было близко его видение романа?
— Я понимала, что так высоко не поднимусь. Круто, когда автор находит своего режиссера. Но тогда лучше не лезть. Это как вклиниваться в чужую семью. Когда я посмотрела «Войну и мир», то поняла, что никогда за нее не возьмусь, как и за лермонтовский «Маскарад». Круче я все равно не сделаю.
— При этом вы как-то сказали, что хотите однажды создать свой театр и остаться в истории.
— До этого в детстве у меня была мечта оказаться в книжке, чтобы меня в школе изучали. Но потом ты взрослеешь, и тебе становится это не важно. Останешься — хорошо, не останешься — и ладно. Хочется остаться в сердцах, а в истории — не важно.
Автор Ксения ПОЗДНЯКОВА