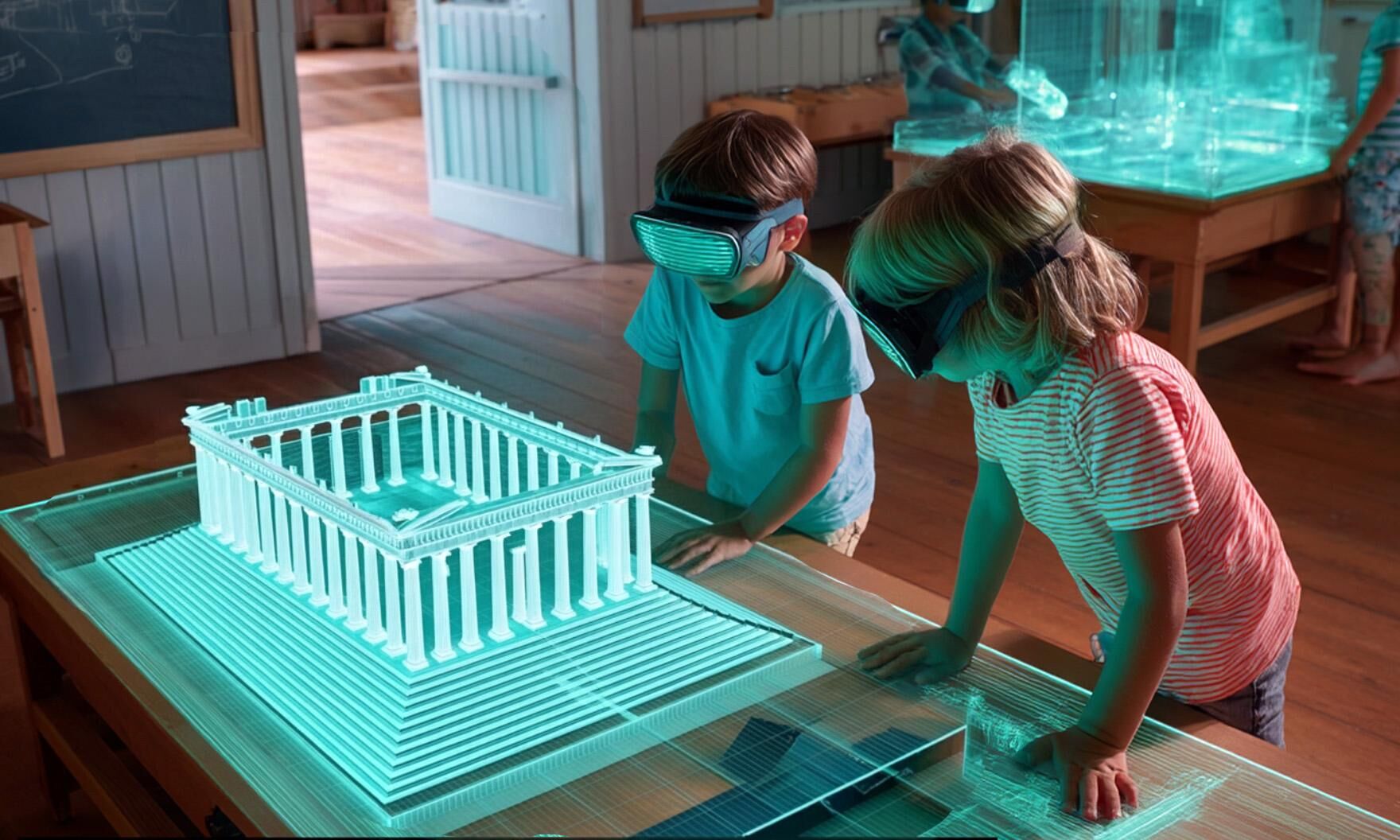«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» Знакомо, не правда ли? Эти строки написаны Тютчевым в Овстуге. Усадьба, построенная дедом поэта, стала родовым гнездом четырёх поколений многочисленного семейства. В своё время благодаря проекту «Цифровизованно», осуществлённому при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в сферу интересов издания IPQuorum попала проблема использования цифровых технологий в музейном деле. Продолжая тему, мы не могли обойти вниманием музей, хранящий память о выдающемся мыслителе и поэте. О том, как живёт сегодня возрождённый Овстуг, рассказывает директор музея-усадьбы Оксана Шейкина.
Фото предоставлено пресс-службой музея
— Тютчев в родных местах бывал нечасто, но посвятил им немало проникновенных строк. В конце жизни поэт называл себя «безнадёжным должником» Овстуга. Почему?
— С течением лет отношение к краю, где он появился на свет, у Фёдора Ивановича менялось. Он никогда не забывал о том, что здесь он «мыслил и чувствовал впервые», здесь ещё жили отзвуки «забытого, загадочного счастья» детских лет. Но он очень рано покинул Овстуг, с головой погрузившись в бурные водовороты жизни — сначала в Москве, где учился в университете, затем за границей, где вступил на дипломатическое поприще. Его неукротимая, эмоциональная натура требовала ярких и глубоких впечатлений, которых не могло ему доставить это место уединения, тишины, покоя. Для молодого человека, полного идей и планов, это не удивительно.
— Фёдор Иванович и в зрелом возрасте редко наведывался сюда дольше чем на пару недель, писал жене о тоске, которая может навалиться на него здесь.
— Его не отпускали из столицы многочисленные и разнообразные обязанности. И, что бы Тютчев ни говорил об Овстуге, нельзя его слова вырывать из контекста. Надо учитывать, когда они были произнесены, где поэт в это время находился и чем были заняты его мысли. На склоне лет он сожалел, что не мог проводить здесь больше времени: отсюда и «недооценённый мой Овстуг».
— Вторая жена поэта была хозяйкой имения более двух десятилетий. Как немецкая баронесса превратилась в рачительную русскую помещицу?
— Эрнестина Фёдоровна любила Овстуг, покидала только на зиму — слишком суровым оказался для неё наш климат. В письмах к мужу называла его «прелестным, благоухающим, цветущим, безмятежным и лучезарным». Это была яркая, щедро одарённая натура. Пётр Андреевич Вяземский предлагал Эрнестине вести литературные дневники, считая, что эта удивительная женщина не уступает талантом многим литераторам того времени. Человек очень организованный, она разумно вела хозяйство, вникая во все детали, поскольку Фёдор Иванович к этому талантов не имел. Доходы с имения составляли немалую часть семейного бюджета. Не будем забывать, что у Тютчева от двух браков было шестеро детей. Не все начинания Эрнестине Фёдоровне удалось реализовать — приходилось считаться с особенностями русского менталитета. Но главное, на протяжении многих лет она оставалась хранительницей семейных традиций, самого духа рода Тютчевых.
— Не потому ли, когда она покинула Овстуг, родовое гнездо постепенно начало приходить в запустение?
— После смерти Фёдора Ивановича ей тяжело было здесь оставаться. Эрнестина поселилась у младшего сына Ивана, в Мураново. На сороковой день по кончине отца Иван Фёдорович вместе с матерью приехали в Овстуг, чтобы разобрать семейные бумаги, отдать распоряжения управляющему и подготовить к отправке в Мураново вещи и обстановку дома. После этого в нём никто не жил. Правда, в 1901 году сюда наведался внук Тютчева. Николай Иванович думал над проектом переустройства усадьбы, хотел вдохнуть в неё новую жизнь. Но эти планы, требовавшие значительных расходов, так и не были осуществлены. Дом так и остался в запустении. В 1914 году местные жители обратились к Тютчевым за разрешением разобрать его, чтобы использовать кирпич для строительства волостной управы. Это здание сохранилось до наших дней. После революции в нём размещались библиотека, магазин, общежитие, а с 1989 года — краеведческий музей села Овстуг, вошедший со временем в состав нашего заповедника.
— Краеведческий музей в небольшом селе — явление редкое. Кому принадлежала идея?
— Владимиру Даниловичу Гамолину, нашему первому директору, и известным художникам — братьям Ткачёвым, с которыми он был дружен. Все они родились неподалёку, Овстуг был для них сакральным местом. Благодаря Ткачёвым экспозиция музея рассказывает об истории нашего края не только через археологические находки и документы, но и через живописные полотна.
Фото предоставлено пресс-службой музея
— Владимиру Даниловичу Овстуг обязан своим возрождением в буквальном смысле из руин. Как ему удалось воплотить в реальность свою мечту?
— Возрождение усадьбы было для него делом жизни. Когда человек свято верит в необходимость того, что он делает, любые трудности можно преодолеть. Владимир Данилович начинал учиться в той самой школе, которую некогда построила для крестьянских детей дочь Тютчева Мария Фёдоровна. Окончив Ленинградский педагогический институт, он вернулся сюда. Своей любовью к Тютчеву и его поэзии Гамолин щедро делился со всеми, с кем приходилось общаться. Когда для сельской школы выстроили новое здание, а в старом устроили общежитие для педагогов, Владимир Данилович в одной из комнат организовал экспозицию. Всё было очень скромно — фотокопии фамильных портретов и рукописей тютчевских стихотворений, книги, газетные вырезки. Первую экскурсию он провёл 1 января 1957 года для своих коллег и учеников. Владимир Данилович был потрясающим рассказчиком, легко превращал людей в своих единомышленников, так что недостатка в тех, кто, как и он, хотел вернуть жизнь туда, где много десятилетий были одни развалины, не было.
— Ежегодные праздники поэзии — традиция, родившаяся в Овстуге?
— Да, для Владимира Даниловича это была возможность привлечь внимание к только что родившемуся крохотному музею. Первый праздник прошёл в начале июня 1961 года. В это время у селян наступает небольшая передышка между окончанием посевных и началом сенокоса: Гамолин хотел приобщить к нему местных жителей. О том, что традицию подхватят многие литературные музеи-усадьбы, никто тогда и подумать не мог. Сохранились фотографии: на нашей огромной поляне люди стоят чуть ли не плечом к плечу. А ведь тогда добраться до Овстуга было не так-то просто — автобусами с пересадками, а от трассы уже пешком. Недавно мы нашли сведения, подтверждающие, что усадьба была приобретена дедом поэта именно в первую неделю июня — купчая была подписана 6 июня. Вот такие бывают «странные сближения».
— Усадьба возрождена после семи десятилетий забвения. На какие источники опирались специалисты при восстановлении главного дома и усадебных построек?
— Это была долгая и кропотливая работа в библиотеках и архивах. К концу 1978 года удалось собрать и изучить всё, что тогда было возможно. Самыми ценными источниками были, разумеется, графические материалы: рисунок общего вида усадьбы, выполненный художником Драницыным в 1849 году, акварели пасынка Тютчева Отто Петерсона (1860) и Оскара Клевера (1910), фотографии парка и главного фасада 1910–12 годов. Внешняя архитектура на них видна очень чётко, чем и воспользовался архитектор Василий Городков, разрабатывая проект восстановления дома. О том, каким было внутреннее убранство и назначение комнат, сведений почти не сохранилось, поэтому пространство осваивалось с учётом размещения экспозиции. В 1986 году порог дома-музея перешагнули первые посетители.
— Бо́льшая часть фамильных меморий хранится в Мураново. Удалось хоть что-то вернуть в родные стены?
— Вы знаете, если бы Иван Фёдорович не увёз всё из Овстуга, мы сегодня вряд ли располагали семейными реликвиями Тютчевых — в наших местах два года хозяйничали фашисты. В создании экспозиции Гамолину очень помог тогдашний директор мурановского музея, правнук поэта Кирилл Васильевич Пигарёв. Из первых подлинников, вернувшихся в Овстуг, были вещи, некогда принадлежавшие одной из дочерей Тютчева — Марии: столик для рукоделия, скатерти, вышитые ею. С той поры потомки поэта едва ли не в каждый приезд к родным пенатам передают в музей какие-то реликвии. Так к нам попали комод и ковёр Эрнестины, визитные карточки членов семьи. Семья Ивана Николаевича Пигарёва передала молитву св. Дмитрию Ростовскому, написанную рукой матери поэта Екатериной Львовной Толстой. Да, обширным собранием меморий мы не располагаем, но это с лихвой восполняется неповторимой атмосферой этого дома.
— Усадьбу без парка представить немыслимо. Насколько нынешний усадебный ландшафт похож на тот, что когда-то пленял Фёдора Ивановича?
— Его воссоздание стало особенно сложной задачей, поскольку изначальных планов не сохранилось. В воспоминаниях Фёдора Ивановича есть строки о том, как он гулял в детстве по аллеям, казавшимся ему бесконечными. Вот, собственно, и всё. По счастью, когда Владимир Гамолин взялся восстанавливать аллеи, они ещё просматривались, несмотря на то что парк, который много лет был предоставлен сам себе, очень пострадал во время Великой Отечественной войны. Вместе с учениками Владимир Данилович шаг за шагом, деревце за деревцем, возвращал парку его былую красоту. За каждым классом был закреплён участок — ребята ухаживали за саженцами, расчищали посадки, убирали сучья.
— Но одними школьными субботниками такую красоту не возродить.
— Согласна. Сегодня парк выглядит очень внушительным и, думаю, таким же задумчиво-романтичным, как в былые времена. Во многом это заслуга специалистов компании «Русский сад», которую много лет возглавляла Валентина Александровна Агальцова. Овстугский парк стал её последней работой. Опытный парковед, знаток усадебной культуры, она тщательно подбирала виды растений, продумывала расположение беседок, дорожек, скамеек. Нам удалось восстановить и два из трёх усадебных прудов, которые пришлись по душе и скромным уткам, и прекрасным лебедям. Одним словом, мы постарались, чтобы наши гости могли окунутся в подлинную атмосферу старинной усадьбы, поверив в то, что вот-вот из-за угла дома к ним выйдут навстречу гостеприимные хозяева имения. А окрестности Овстуга с тютчевских времён почти не изменились:
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…
— Без мультимедиа современный музей представить невозможно Какие возможности сегодня задействованы в Овстуге?
— В пространствах усадеб использование цифровых технологий сопряжено с целым рядом сложностей. С одной стороны, они обеспечивают посетителям доступ к огромному количеству информации, которую не уложишь ни в какую экскурсию, с другой — врываются в хрупкую атмосферу былой жизни, ничего этого не ведавшей. Поэтому мы стараемся использовать мультимедиа очень дозированно. У въезда в усадьбу установлено два медиаэкрана, транслирующих текущую актуальную информацию для посетителей, во входной зоне дома на медиапанели загружен контент, посвящённый Тютчеву и его эпохе, истории музея и его первого директора. В мемориальном пространстве присутствует только один гаджет, замаскированный под ростовое зеркало, «заглянув» в которое можно увидеть небольшую программу из стихов и писем Фёдора Ивановича. И конечно же, мы предусмотрели аудиогиды для тех, кто предпочитает в одиночестве побродить по экспозиции.
— Когда в Овстуге установили первый в стране памятник Тютчеву, в правление местного колхоза кто-то написал, что негоже прославлять эксплуататора трудового народа. А мы готовы повторить вслед за Львом Толстым — «без Тютчева жить нельзя». Выходит, есть пророки в своём Отечестве?
— Наверняка автор того письма ни строки из Тютчева не знал. А сегодня написанное Фёдором Ивановичем цитируют все — от школьников до политиков самого высокого ранга. И не только хрестоматийное «Умом Россию не понять». «Истинный защитник России — История, в течение трёх столетий разрешавшая в её пользу тяжбы, в которые русский народ раз за разом ввергал всё это время свои таинственные судьбы…» Тютчев был не только гениальным поэтом, но и глубоким мыслителем. «…Никто в России не представляет так ясно, не убеждён так твёрдо, не верит так искренно в её всемирное историческое призвание, как он», — писал о Тютчеве историк Михаил Погодин. Не ошибся в своём прогнозе Афанасий Фет, утверждавший, что Тютчева «поймут через двести лет, но поймут и возгордятся». Заметьте, до 225-летия со дня рождения Фёдора Ивановича осталось ровно три года. Все мы гордимся тем, что являемся хранителями родового гнезда Тютчевых. Я работаю в музее уже много лет и всё чаще задумываюсь над тем, что первично: Фёдор Иванович своим рождением освятил овстугские просторы, превратив в место силы, или они, изначально являясь таковыми, подарили миру гениального поэта и мыслителя. И знаете, я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа.
Автор: Виктория Пешкова